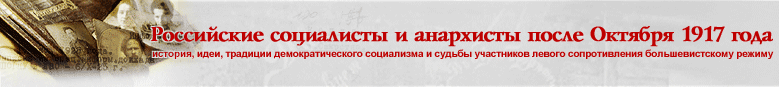
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Два пути: Февраль и Октябрь
| предыдущая | содержание | следующая |
«РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛЪ» РЕВОЛЮЩИ
ПО Ф. А. СТЕПУНУ
1.
Революція для Ф. А. Степуна явленіе – «много-смысленное». Онъ видитъ въ революціи – «прерывъ», «некое вдругъ», «распадъ» и «разрывъ національнаго сознанія», «оголеніе бытія, взрывъ всехъ смысловъ жизни»; и въ то же время – «возстаніе жизни противъ смерти», «черезъ разрушеніе осуществляющее себя творчество», «гневное вторженіе абсолютнаго въ историческую жизнь».
Какъ въ апокалиптическую грозу и бурю, раскрывается въ революціи высшій смыслъ абсолютныхъ ценностей. Къ этому и сводктся последній, религіозный, единственный смыслъ революціи, самое ея бытіе. Ибо – «поскольку революція не есть только рядъ внешнихъ фактовъ, a есть некоторое внутреннее coбытіе духа, постольку ея бытіе и состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ осмысливаніи, обезсмысливаніи и переосмысливаніи жизни».
Для раскрытія смысла русской революціи Степунъ строитъ чрезвычайно сложное сооруженіе (въ № 40 «Соврем. Записокъ»). Онъ вводитъ особую «методо- {209} логическую часть»; устанавливаетъ условную аd hoc прилаженную терминолсгическую сеть и цепь логическихъ аргументовъ; собираетъ итоги и личнаго «виденія», и «безсознательныхъ переживаній». Точно автору самому плохо верится въ устойчивость своего аппарата, и численнымъ разнообразіемъ способовъ своей защиты онъ старается уравновесить недостаточную прочность каждаго изъ нихъ. Не поможетъ словесное искусство – поможетъ «типологическое описаніе», окажется безсильнымъ и оно – придется обратиться къ «трансраціональнымъ» переживаніямъ....
Внутренне-необходимой связи между всеми этими элементами авторъ и самъ не усматриваетъ. По крайней мере, свою «методологію» онъ рекомендуетъ по просту пропустить темъ, кто ею спеціально не ин-тересуется, – совсемъ какъ въ оранжевомъ «Катехизисе» евразійцевъ, где также предлагалось опустить главу о религіи темъ, кто, интересуясь евразійствомъ, равнодушенъ къ религіознымъ его основамъ.
Конечно, терминологія – вещь условная, и о словахъ спорить не принято, да и не стоитъ. Но все же нельзя забывать, что, какъ ни относись къ словамъ, Песъ – созвездіе и песъ – лающее животное совершенно различные «псы». И, кроме того, – споръ о слове иногда и составляетъ самое существо спора, не отвлеченаго только, но и чреватаго весьма практическими последствіями. Достаточно вспомнить «контро-верзу» о сугубой и трегубой «аллилуйе» или сохраненіи за государственнымъ строемъ Россіи и после 1905-6 г. «наименованія «самодержавный».
Въ процессе «осмысливанія, обезсмысливанія и переосмысливанія» Степуна слову отведена едва ли не наиболее ответственная партія. И не только благодаря {210} тому, что авторъ, мастерски владея словомъ, какъ бы безсознательно отдается его магической силе и заставляетъ въ своемъ слове «трепетать и отзываться каждое дыханіе ума, сообразно безпрестанно изменяющемуся сцепленію и разрешенію мыслей». (См. «Мысли о Россіи» Ф. А. Степуна въ № 32 «С. 3.»). Нетъ, Степунъ и по существу признаетъ правду н о м и н a л и з м а, полагаетъ, что «и м я н е о т д е л и-мо отъ нарекаемой имъ реальности, составляетъ одну изъ наиболее с у щ е с т в е н н ы х ъ ч a с т е й е я».
«Нарекая», Степунъ даетъ не условное лишь обозначеніе предмету. Онъ темъ самымъ вскрываетъ и реальное существо предмета. И потому столь неожиданными и странными въ его устахъ кажутся постоянныя оговорки относительно того, что онъ на своемъ словоупотребленіи не настаиваетъ, что его терминологія «необычна», что его «революція» противоречитъ «общеречію» и т.п. Что-нибудь одно изъ двухъ: либо имя действительно неотделимо. отъ нарекаемой имъ реальности, и тогда Степунъ долженъ настаивать на своемъ наименованіи, хотя бы и вопреки «общеречію», какъ единственно адэкватномъ существу революціи; либо «важно не то, какъ называть вещи, a то, чтобы ихъ правильно видеть, зорко и существенно другъ отъ друга отличать», и тогда, правильно вещи видя, врядъ ли надо неправильно ихъ называть, вводить въ заблужденіе, или плодить недоразуменія.
Нельзя отделаться отъ убежденія, что въ изображеніи революціи Степуномъ авторъ, выражаясь его же словами, «портретируетъ» не столько предметъ изображенія, сколько «изображающее лицо» и свои собственныя мысли и представленія. Какъ бы ценны ни {211} были они, все же необходимо было зорко и существенно отличать «структуру» революціи отъ «структуры» сознанія Ф. А. Степуна. A наличности з a p a н е е данной и совершенно определенной «структуры» Степунъ и самъ не скрываетъ. «Нельзя, – говоритъ онъ, – зная (подчеркнуто Степуномъ!), видя, чувствуя, что въ революціи совершается гневное вторженіе абсолютнаго въ историческую жизнь, изследовать революцію такъ, какъ будто бы это совершенно неизвестно».
Неизвестно лишь, для чего вообще въ такомъ случае заниматься изследованіемъ религіознаго смысла революціи, разъ «знаніе», «виденіе» и «чувствованіе» его уже даны?!...
Подмена структуры революціи структурой личнаго сознанія автора встречается не одинъ разъ. Достаточно сказать, что на протяженіи почти всей статьи, вопреки обещанію, вскрывается не смыслъ вообще революціи, a революціи ограниченной во времени и по смыслу – большевицкой. Знакомый съ прежними писаніями Степуна знаетъ, что онъ именно такъ и конструируетъ русскую революцію, – какъ революцію прежде и больше всего болыпевицкую. Но что именно такова и объективная структура всякой ревоілюціи, и болыиевизмъ есть революція, a не ея вырожденіе и перерожденіе, нигде не показано и ни изъ чего не следуетъ.
Степунъ большой охотникъ до антитезъ. Прежде онъ любилъ противопоставлять живое виденіе глаза мертвымъ точкамъ зренія. Сейчасъ этотъ «зрительный» образъ замененъ «гносеологическимъ» противо-полоіженіемъ идеологіи, какъ «построенія теоретическаго сознанія», и д е я м ъ, какъ «структуре нашего {212} безсознательнаго пореживанія». Не то, что между идеологіями, какъ и между идеями, имеются ложныя и истинныя, мертвыя и живыя. Нетъ, идеологіи, какъ таковыя, тяготеютъ къ безпочвенности и безплодію; идеи же, наоборотъ, отмечены положительнымъ знакомъ – жизненны и благодатны.
Это «гнооеологическое» различеніе имеетъ столь же произвольное соціально-политическое сопровожденіе. – Люди, вдохновляемые идеями, – «жизненные люди», между ними возможны встреча и схожденіе, даже когда они следуютъ за разными идеями. Другое дело, – приверженцы идеологій; они – мертвецы, извечно непримиримые и осужденеые на постоянную борьбу. Помещикъ съ кооператоромъ – «жизненные люди» и, потому, они могутъ делать общее дело, тогда какъ профессоръ и журналистъ – непременно «фанатики лжеидеологіи» и обречены на взаимоистребленіе.
Такая «структура» идеолога и профессора характерна не только какъ крайнее проявленіе личнаго самоотрицанія и самоотреченія, какъ общая дисквалификація всехъ усилій «осмысливать, обезсмысливать и переосмысливать» явленія. Она характерна и своимъ нагляднымъ тяготеніемъ къ жизненному практицизму, въ сторону малыхъ делъ, взаменъ неудавшихся большихъ и малыхъ идей и идеологій!
Что раскрываемый Степуномъ смыслъ есть не смыслъ, раскрывающійся въ революціи, a смыслъ въ нее вкладываемый определенной структурой авторскаго сознанія, съ неопровержимостью обнаруживается и изъ обоихъ якобы «конститутивныхъ» признаковъ революціи.
Революція, по нынешнему утвержденію Степуна, {213} это – «распадъ», она знаменуетъ «разрывъ національнаго сознанія».
Не будемъ говорить о томъ, что еще не такъ давно самъ Степунъ виделъ въ революціи прежде всего не «распадъ» и «разрывъ національнаго сознанія», а, какъ и мы, «всенародный порывъ», всеобщую зачарованность и «одержимость» хотя бы и преходящимъ во времени «мигомъ». Нынешняя его «структура» характерна только для большевицкой революціи и никакъ не подходитъ ни для «провинціальной» и малой германской революціи, ни для «настоящей» и «классической» революціи французской. Будучи и для Степуна революціей, «классическое происшествіе 1789 г.» знаменовало отнюдь не разрывъ націоиальнаго сознанія, a его сцепленіе. Единая и неделимая (une et indivisible ) патріотическая Франція была синонимомъ Франціи революціонной, несшей на своіихъ победоносныхъ знаменахъ неотчуждаемыя отъ человека и гражданина права, свободу, равенство и братство.
Не более благополучно обстоитъ дело и съ темъ, въ чемъ Степунъ видитъ первопричину и революціи и распада національнаго сознанія, съ отрицаніемъ русской революціей, какъ и всякой, абсолютнаго, т.е., религіознаго значенія культурныхъ ценностей.
Какъ «разрывъ единства національнаго сознанія» не вмещается въ подлинную структуру французской революціи, такъ «отрицаніе абсолютнаго» не вмещается структурой англійской революціи. Последняя взошла целикомъ на пуританскихъ дрожжахъ, питалась религіозными страстями и воодушевленіемъ и протекала подъ знакомъ борьбы за разныя, но религіозныя святыни: за «свободу съ благословенія Божія», за {214} уничтоженіе епископата, вліянія римской церкви и т.д.
Структура революціи, эмпирически явленной міру въ октябре 1917 года, никакъ не покрываетъ общаго «логоса» революціи.
Какъ бы предупреждая упрекъ въ субъективизме, Степунъ утверждаетъ, что къ «сфере трансраціональнаго опыта» критерій субъективности вообще неприложимъ. Ибо субъективность, по Степуну, заключается вовсе не въ недоказуемосги правды, a въ «нравственной дефективности»: въ духовной ненапряженности опыта, его незрячести и безпредметyости.
Намъ представляется, что и при такомъ пониманіи субъективности «переосмысливаніе» революціи Степуномъ не можетъ уйти отъ признанія его произвольно-субъективнымъ. Ибо для него – «чемъ была (!) русская революція определится (!), въ конце концовъ, темъ, во что она въ будущемъ выльется или, говоря менее фаталистически, темъ, что мы изъ нея въ будущемъ сделаемъ». Иначе – прошлое определится будущимъ. Конецъ увенчаетъ дело. По плодамъ узнаются корни и существо вещей.
Это идетъ въ разрезъ не только съ утвержденіями того же Степуна: «на вопросъ о смысле революціи нельзя отвечать указаніемъ на порождаемыя ею къ конце концовъ ценности». Это есть и принципіальное отрицаніе, заведомый отказъ проникнуть въ существо революціи и увидеть подлияный его ликъ до того, какъ исполнятся времена и сроки, и будущимъ осветится – и, можетъ, освятится – прошлое.
Такой агностическій натурализмъ какъ будто плохо свидетельствуетъ о чрезмерной духовеой напряженности и «зрячести» внутренняго опыта!..{215}
И это не случайная обмолвка y Степуна. Нетъ! Онъ и раньше не страдалъ, какъ другіе, «метафизическимъ малодушіемъ и недоверіемъ въ органическое вызреваніе идей». Онъ и раныие заявлялъ чистосердечно:
— «...А что же хорошо, что большевики были или лучше если бы ихъ не было? На этотъ вопросъ я сейчасъ (подчеркнуто Степуномъ!) ответить не могу. Ответъ на него будетъ зависеть (подчеркнуто мною!) отъ того, во что переродится большевизмъ въ Россіи. Если все, кончится только порядкомъ, мерой, закономъ, – то большевизмъ придется признать только зломъ, темъ, чего лучше бы не было. Но если Россія въ будущемъ, въ своемъ національномъ и соціальномъ строительстве вознесется на те положительныя религіозныя, этическія и соціальныя высоты. о которыхъ пророчествовали Толстой и Достоіевскій, съ которыхъ она сорвалась въ большевизмъ, которыя она исказила въ революціи, то Октябрь будетъ оправданъ». (См. «С. 3. » № 34, стр. 440).
Какъ это Толстой и Достоевскій могутъ вдругъ оказаться въ активе y болыпевиковъ, въ зависимости отъ хода грядущихъ событій, и надо ли стремиться къ тому, чтобы все кончилось «порядкомъ, мерой и закономъ», или, какъ въ былое время, необходимо рваться къ положительнымъ религіознымъ, этическимъ и соціальнымъ высотамъ, – пока что остается секретомъ Степуна.
Этотъ секретъ интимно связанъ съ внутреннимъ отношеніемъ Степуна къ революціи, какъ объекту познанія, a не какъ сфере деятельности. Раскрываемый Степуномъ смыслъ революціи касается главнымъ обра- {216} зомъ міра представленій и только косвенно и отраженно – міра воли.
Въ идее о революціи Степуна, – a идея y Степуна, надо помнить, «структура его безсознательнаго переживанія», – нетъ места активному отношенію къ революціи. Эта идея чужда революціи или, во всякомъ случае, довольно равнодушна къ волевому отбору положительныхъ творческихъ элементовъ, къ борьбе противъ элементовъ распада.
Степунъ, правда, говоритъ, что «для каждаго изъ насъ, революція есть въ насъ самихъ становящаяся судьба Россіи», что даже ея прошлое «определится темъ, что мы изъ нея сделаемъ», но агностицизмъ его парализуетъ его волю. Не имея с е й ч a c ъ ответа даже на вопросъ, – является ли большевизмъ добромъ или зломъ, онъ, естественно, и не можетъ иметь ни стимуловъ, ни воли для борьбы съ темъ, что можетъ оказаться зломъ, но можетъ ведь обернуться и добромъ.
Степунъ со.вершенно напрасно уверяетъ, что революціонная энергія своею выдумкой убиваетъ мысль. Нетъ, не она, революція, a онъ, Степунъ, убиваетъ, поскольку можетъ убить, революціонную энергію. Самое бытіе революціи Степунъ доказываетъ темъ же онтологическимъ способомъ, какимъ въ до-кантовскія времена доказывалось бытіе божіе. «Бытіе революціи состоитъ ни въ чемъ иномъ – (ни въ чемъ иномъ! М. В.), – какъ въ осмысливаніи, обезсмысливаніи и переосмысливаніи жизни». «Каждый актъ постиженія прошлаго есть актъ построенія или разрушенія будущаго». {217}
Смыслъ Степуна это смыслъ критическаго разума, а не практическаго. A называемый Степуномъ «религіозный» смыслъ есть по просту мещански-благополучный, безтрагичный, всеустрояющій и всехъ со всемъ примиряющій смыслт. Для Степуна – «Если y революціи есть смыслъ, то онъ долженъ быть смысломъ общимъ, смысломъ для всехъ, смысломъ, явственно возвышающимся надъ всеми партійными осмысливаніями». Съ самимъ Богомъ Степунъ не согласенъ мириться иначе, какъ на условіяхъ мира безъ победителей и побежденныхъ, безъ аннексій и безъ «жестокой экспропріаціи священныхъ смысловъ нравственныхъ страданій и героическихъ подвиговъ».
Для Степуна по просту «преступна мысль, что осмысленная для Антанты война кончилась для насъ, русскихъ, a также и немцевъ полной безсмыслицей, потому что для русскихъ она закончилась Брестомъ, a для немцевъ Версалемъ». Въ такой же мере «преступнымъ» кажется ему утвержденіе, что революція можетъ осмыслиться въ будущемъ для демократовъ и соціалистовъ и навеки остаться «т о л ь к о безсмыслицей для всехъ погибшихъ въ ней монархистовъ и белогвардейцевъ»...
Структура безсознательныхъ переживаній здесь явно отступаетъ отъ структуры его сознательнаго утвержденія, что прошлое (большевизмъ) освятится или, наоборотъ, будетъ проклято въ прямой зависимости отъ будущаго, отъ того, что «мы» изъ него сделаемъ. Эта структура явно не совпадаетъ съ реальностью. Ибо можно спорить, въ какой мере война кончилась «осмысленно» для Антанты. Но что для русскихъ или для немцевъ она кончилась безсмыслицей, противъ этого спорить, – конечно, не преступно, но врядъ ли имеетъ {218} смыслъ. Въ это можно в е р и т ь, но лишь по Тертуліану — quia absurdum est !.. Наконецъ, отрицая даже за исторіей право вскрывать неосмысленность страданій и подвиговъ, въ которыхъ страдальцы и герои въ свое время видели «священный смыслъ», Степунъ, на нашъ взглядъ, погрешаетъ и противъ соціологіи, и противъ подлиннаго смысла священнаго. Ибо въ универсально-уравнительномъ отношеніи ко в с е м ъ страданіямъ священное, растворяется; снимая все противоречія съ добра и зла, оно становится постыдно-равнодушнымъ къ нимъ. И не надо непременно быть Сальери, чтобы решительно оггвернуться отъ мірозданія, въ которомъ «нетъ правды на земле, но правды нетъ и выше»!..
Конечно, онъ знаетъ, и самъ о томъ упоминаетъ, что исторія человечества – трагедія, a не идиллія. Но это знаніе не проникаетъ вглубь его сознательной и безсознательной «структуры». Его переживанія и то, въ чемъ онъ находитъ последній, религіозный смыслъ сущаго, въ частности, – и революціи, совсемъ близко подходятъ къ переживаніямъ католицизма, выраженнымъ въ классической формуле ватиканскаго собора: «Кто «станетъ отрицать, что міръ созданъ для прославленія Бога, – тому анафема!»..
Эта структура имеетъ общее и со структурой Кальвина, усматривающаго прославленіе Бога даже въ предопределенности къ мученіямъ и гибели. И менее всего она сродни «доброму русскому» Богу. И человекъ, простой русскій человекъ не решился бы потворить міръ такимъ, какимъ его готовъ принять, какъ божіе твореніе, Степунъ. И не надо быть верующимъ, достаточно не быть лишеннымъ элементарныхъ чувствъ справедливости и состраданія, чтобы отвергнуть міръ {219} такимъ, какимъ его готовъ религіозно принять и осмыслить Степунъ1.
Если искать въ революціи иепременно религіозный смыслъ, его можно найти только въ томъ, что революція – актъ творчества, историко-политическаго и этическаго; въ терминахъ Влад. Соловьева – одна изъ формъ богочеловеческаго становленія. Какъ Соловьевъ доказываетъ это въ отношеніи къ гуманизму и «безусловнымъ» принципамъ 89 года, такъ Степунъ могъ бы доказывать то же въ отношеніи къ русской транскрипціи этихъ принциповъ – къ Февралю 17 г. И такъ же, какъ это недоказуемо въ отношеніи къ «святейшей» Инквизиціи или изуверской религіозной секте, это не применимо и къ Октябрю.
3.
Ф. А. Степунъ пишетъ о «Націоінально-религіозныхъ основахъ большевизма». Вернее – и точнее – объ основахъ того что вызвало или не предотвратило торжества большевизма въ Россіи. Эти основы авторъ прослеживаетъ въ русской географіи (пейзаже), русскомъ хозяйстве (крестьянстве и его психологіи), въ {220} русскомъ сознаніи (философіи и облике интеллигенціи). Повсюду обнаруживаетъ о«ъ созвучность с т и х і и (народной) съ выдумкой (большевиковъ). Этой «созвучностью», по мненію Степуна, только и «объяснима победа большевиковъ надъ Россіей».
Это – исходноіе положеніе. Более чемъ сомнительное исторіософически, оно представляется намъ соблазнительнымъ и морально-политически.
Неужели исторія – только сумма «созвучій», не ведающая ни ассонансовъ, ни диссонансовъ? Не является ли такая «предустановленная гармонія» между личной выдумкой и массовой стихіей произвольнымъ упрощеніемъ исторіи? Отказомъ отъ объясненія наиболее частыхъ трагическихъ расхожденій между разумнымъ въ исторіи и неразумнымъ, ирраціональнымъ и темнымъ въ ней? Не поощряетъ ли провиденціализмъ въ исторіи къ искусственному отысканію «созвучности» во что бы то ни стало, во в с я к о й выдумке? И не заполнятся ли въ такомъ случае все провалы исторіи «выдумками» досужихъ историковъ?
Если только совпаденіемъ стихіи съ выдумкой объяснимо все исторически сущее и если въ «победе большевикоівъ надъ Россіей» такое совпаденіе какъ разъ обнаруживается, – значитъ, былъ историческій разумъ въ победе большевиковъ, была въ ней имманентная необходимость, исключавшая всякую иную возможность развитія Россіи.
Ф. А. Степунъ такого вывода не делаетъ. Но врядъ ли это не следуетъ изъ того, что онъ въ данномъ случае говоритъ. Онъ не говоритъ, что все «основы» {221} большевизма обусловили съ необходимостью победу большевизма. Наоборотъ, онъ оговариваетъ, что если бы одна изъ указанныхъ имъ «національно-религіозныхъ основъ» и не была бы темъ, чемъ она была въ действительности, – «если бы русская философія на протяженіи предшествующаго революціи столетія занималась бы не обще-синтетическимъ отображеніемъ религіозной сущности русской души, a критическимъ расчлененіемъ и дифференцированнымъ возделываніемъ (?) русскаго сознанія», то отсюда «ни въ какой мере и степени, конечно (!) не следуетъ», что «революція вылилась бы въ другія, более умеренныя и, съ соціалыю-политической точки зренія, более осмысленныя формы. Такой выводъ, по мненію Степуна, былъ бы глубоко не веренъ».
Остается непонятнымъ, почему въ такомъ случае русскую философію, съ ея специфическимъ «отрицаніемъ идеи автономіи и недооценкой принциповъ формы, меры и дифференціаціи», считать все-таки о с н о в о й революціи?... И почему другая «основа» – неделовитая русская интеллигенція, – въ отличіе отъ только что упомянутой, обладаетъ причинно-обуславливающей силой? Для Степуна «не подлежитъ никакому сомненію, что если бы эта роль (русской интеллигенціи) была меньше, если бы революція ограничилась выраженіемъ и защитою реальныхъ хозяйственныхъ нуждъ русскаго народа, то она (очевидно, революція. – M. B.) вылилась бы въ совершеено иныя формы, чемъ те, которыми она и ныне и влечетъ, и пугаетъ Европу».
И более чемъ характерно, что, при «углубленномъ», «метафизически-духоверческомъ», какъ называетъ авторъ свое, постиженіе болыпевизма, лишь {222} п о с л е описанія пейзажа, души, идеологіи и т.д., въ самомъ заключеніи своихъ «Мыслей», авторъ точно спохватывается и вспоминаетъ, что «большую роль сыграла въ этой победе (большевиковъ надъ Роосіей и в о й н a »...
Это малозаметное «и», соединяющее соблазнительныя, хотя и интересныя, медитаціи Ф. А. Степуна съ подлинной основой победы большевицкой выдумки надъ россійской стихіей, выразительно подчеркиваетъ недостаточность одного «метафизически-духоверческаго» постиженія и рискованность съ него именно начинать. Война, поставленная впереди всехъ прочихъ «основъ» большевицкой победы, и та же война, поставленная въ конце и позади, – это два различныхъ «постиженія», на методологически только, но и по существу2.
Если нужна иллюстрація, – ее даетъ сравненіе авторомъ германской революціи съ русской. Степунъ считаетъ, что исходы той и другой были разные, несмотря на «тройную связь» между ними, потому, что русская революція, какъ и французская, в е л и к a я революція, настоящая, тогда какъ немецкая (не германская, a немеіцкая) революція «въ сущности вообще не революція, a всего только ускоренная и обостренная эволюція». Русская революція была ре- {223} волюціей потому, что она имела великую т е м y и была исполнена міровыхъ проблемъ и заданій», немецкая же н е была революціей, «съ места отяжелела деловитостью» и «провинціальностью», потоиу что она «подменила великую тему о невозможномъ преображеніи жизни темою ея возможнаго преобразованія».
Если брать вещи – и исторію – какъ оне б ы л и, нельзя пройти мимо основного обстоятельства, можно сказать, предопределившаго разные исходы революціи въ Россіи и въ Германіи. Русская революція разыгралась в о в р е м я, въ самый разгаръ войны. Германская – къ моменту ея окончанія и ликвидаціи. Въ Россіи немедленный, хотя бы и «похабный», миръ могли дать только большевики. Въ Германіи – только не большевики. Во время войны Германія готова была заключить сепаратный миръ съ кемъ угодно, хотя бы и съ большевиками. Миръ, заключившій победоносную войну, союзникь могли заключить съ кемъ угодно, только не съ спартаковцами. И не пооюму только, что союзники не захотели бы обязательства спартаковцевъ принять за обязательства германской націи, но и потому, что и спартаковцы не желали «похабнаго» мира съ Антантой. Въ отличіе отъ всехъ другихъ партій Германіи конца 18-го года ихъ лозунгъ былъ не миръ немедленный и во что бы то ни стало, a міровая революція въ форме войны революціонной Германіи, – которой, ожидалось, придутъ немедленно на помощь красные батальоны Троцкаго, – противъ победившихъ союзниковъ-имперіалистовъ3.{224}
Говоря о Революціи, Ф. А. Степунъ ни разу не «дифференцируетъ» этого понятія. Можетъ быть, въ этомъ сказалось желаніе остаться вернымъ традиціи русской философской мысли, которая, по мненію Степуна, состоитъ въ «недооценке принциповъ формы, меры и дифференціаціи»... Во всякомъ случае онъ не различаетъ въ русской революціи ни «фазъ», ни «ликовъ», ни даже періодовъ. Онъ беретъ ее въ «последнемъ, метафизическомъ смысле», повидимому, целикомъ. При этомъ выпятившійся впередъ, физически и хронологически безспорно наиболее значительный большевицкій фасъ затмилъ собою почти все поле зренія автора. Все профили, разрезы и пересеченія русской революціи полностью выпали изъ разсмотренія автора. Между темъ, какъ разъ для м е т a ф и з и ч е с к а г о и д y x o в е р ч е с к а г о постиженія, казалось бы, менее всего обязательно придавать въ какой бы то ни было мере решающее значеніе эмпирическимъ даннымъ: длительности во времени, фактическому торжеству и т.п. Знакъ равенства, которымъ Степунъ сплошь и рядомъ соединяетъ русскую революцію съ большевизмомъ, менее всего мотивированъ при е г о подходе.
Степунъ констатируетъ «невероятную напряженность и высоту метафизической проблематики русской революціи», большевизма тожъ. И вместе съ темъ – ея «пределыюе окаянство». Но какое изъ этихъ началъ въ ней перевешиваетъ, – авторъ не указываетъ. Остается неяснымъ и положительное устремленіе автора. Предпочелъ ли бы онъ, къ добру и злу отнюдь не равнодушеый, чтобы «русская революція прошла бы много тише, приглушеннее, раціональнее», на немецікій ладъ, «но за то Толстой съ Достоевскимъ не стали бы темъ, чемъ они стали: всемірно значительными іеро- {225} глифами русской народной религіозности»? Или, несмотря на «окаянство», онъ все-таки предпочитаетъ русскую «импровизацію, случай и вдохновеніе» немецкимъ – «границамъ, долгу и мере». Предпочитаетъ ли онъ, по формулировке Констант. Леонтьева, – т y p o к ъ, при которыхъ были «мученики за веру», или б е л ьг і й с к у ю конституцію, при которой «едва ли будутъ преподобные?»
На «внутренній слухъ» всякаго читателя въ іерархіи духоверческихъ ценностей Степуна всемірная значительность іероглифовъ какъ будто все-таки выше вульгарныхъ тракторовъ и механическихъ Дизелей. Грозный, апокалиптическій Достоевскій какъ будто ему ближе классическаго и солнечнаго Пушкина. «Турки» с ъ мучениками дороже конституціи б е з ъ «преподобныхъ».
Совершенно очевидно, что Степунъ предпочелъ бы, чтобы большевики никого не резали и не терзали. Но, къ сожаленію, совершенно не ясно, даже при самомъ доброжелательномъ истолкованіи его мыслей, не искупаются ли для автора большевицкія злодеянія «невероятной напряженностью и высотой проблематики» большевизма.
Ведь считаетъ же онъ, что «темнота русскаго простого человека, какъ явленія внутрицерковной жизни, скорее культура, чемъ некультурность». Представляется же ему «спасительной» даже «темнота, некультурность, необразованность русскаго народа» по сравненію съ западно-европейскимъ «расцерковленнымъ полупросвещеиіемъ».
И какъ иначе, если не двусмысленнымъ, назвать типичное и м я с л a в і е большевизма, которое звучитъ въ словахъ: «конечно, никакой пролетаріатъ въ {226} Россіи не властвуетъ, но все же большевизмъ властвуетъ его именемъ! A разве имя отделимо отъ нарекаемой имъ реальности? Разве оно не составляетъ одной изъ наиболее существенныхъ частей его?».
Ну, какъ не вспомнить при этомъ классическаго предупрежденія Кузьмы Пруткова: Если на клетке слона прочтешь надпись «буйволъ», не верь глазамъ своимъ!.. Конечно, и Ф. А. Степунъ не веритъ, что все «надписи» адэкватны действительности, и что «буйволъ» неотделимъ отъ «нарекаемаго» имъ реальнаго слона. Но почему же онъ – болыиой мастеръ слова – пишетъ такъ, точно веритъ въ «буйвола» или точно хочетъ, чтобы другіе уверовали въ имяславіе?
Среди другихъ пророковъ русской интеллигенціи Степунъ отмечаеть и тотъ, что y нея было «много греховной невоздержанности и выдумки». Не обратимъ э т о г о упрека по адресу русскаго интеллигента Ф. А. Степуна. Поставимъ ему въ упрекъ другое – словесную «инструментовку» его мыслей, которую онъ считаетъ качествомъ и въ которой онъ следуетъ за Ив. Киреевскимъ. «Одномыслію мертваго термина» Степунъ, какъ и Киреевскій, «определенно предпочитаетъ многомысліе живого слова, въ переливчатомъ смысле котораго должно трепетать и отзываться каждое дыханіе ума, которое безпрестанно» должно менять свою краску, сообразно безпрестанно изменяющемуся сцепленію и разрешенію мыслей»...
Ф. А. Степунъ соблазнился, конечно, не большевизмомъ. Его соблазнили «переливчатый смыслъ и многомысліе живого слова». Читатель же можетъ соблазниться и инымъ: не только словесной «инструментовкой», но и политически-смысловымъ содержаніемъ инструментируемаго. И рискъ такого соблазна темъ больше, {227} чемъ авторъ дальше отъ «предельнага окаянства» большевиковъ и отъ нетерпеливо вожделеющихъ пожать болыиевицкіе плоды евразійцевъ, – «следственниковъ» большевизма, какъ они себя именуютъ.
4.
«Осмысливать, обезсмысливать и переосмысливать» міръ, вносить светъ разума во все расщелины хаоса – совершенно въ стиле и въ духе русской культуры: въ традиціи русской филоісофіи и художественнаго творчества, въ обыкновеніи русской общественности.
Кто только ни осмысливалъ y насъ действительность! И какъ только ее ни осмысливали!.. И любопытно, что какъ разъ Степунъ, сравнительноі еще недавно, отрицалъ возможность «осмысливанія» нашей катастрофической эпохи. Въ вышедшемъ подъ редакціей Степуна въ Москве 1922 г. альманахе «Шиповникъ», въ статье «Трагедія и Современность», Степунъ писалъ: «Единственное возможное спасеніе подлиннаго трагическаго смысла нашей катастрофической эпохи, должно было бы пойти путемъ полнаго в о з д е р ж a н і я отъ осмысливанія въ эмпирической перспективе психологическихъ, соціальныхъ, политическихъ и національныхъ смысловъ. Трагическое постиженіе нашей эпохи должно бы пойти путемъ са-маго радикальнаго отказа отъ всякаго теоретическаго раскрытія всехъ сказуемыхъ смысловъ войны и революціи».
Въ новейшемъ «переосмысливаніи» русской революціи Ф. А. Степуна чувствуется довольно почтенная старина. Оно заставляетъ вспомнить другое «осмыслива- {128} ніе» русскаго духа и русской исторіи, произведенное больше полувека тому назадъ Достоевскимъ. Величайшему изъ тайновидцевъ духа упорно не давалась историческая плоть, никакъ не раскрывалась тайна политической матеріи. И онъ оказался въ ряду наиболее неудачныхъ прорицателей историческихъ судебъ Россіи. Не въ злободневно-политическомъ и малоудачномъ своемъ «Дневнике Писателя», a въ потрясающихъ «Запискахъ изъ подполья» писалъ онъ еще въ 1864 г.:
«У насъ русскихъ, вообще говоря, никогда не бывало глупыхъ надзведныхъ немецкихъ и особенно французскихъ романтиковъ, на которыхь ничто не действуетъ, хоть земля подъ ними трещи, хоть погибай вся Франція на баррикадахъ, – они все те же, даже для приличія не изменяются и все будутъ петь свои надзвездныя песни, такъ сказать, по гробъ своей жизни»...
Здесь, какъ и позднее, Достоевскій кичился – и совершенно напрасно кичился – передъ Европой. Онъ самъ оказался не чуждъ той «надзвездной романтики», надъ которой издевался, какъ надъ нелепой французско-немецкой выдумкой. И тутъ его пророчество не сбылось, какъ не сбылась его уверенность въ томъ, что Россіи суждено сказать Европе свое слово, a Европе – еще до этого – быть залитой кровью; что «Птица Каганъ» прилетитъ не на «русскіе проеторы», a на европейскую «тесноту», и «хрустальный дворецъ» для низшей братіи будетъ построенъ «на крови и ненависти» не y насъ, a y нихъ... Ничего изъ всего этого съ Европой не приключилось или – сбылось какъ разъ обратное тому, о чемъ пророчествовалъ Достоевскій.
И надзвездной романтики оказалось y насъ больше, чемъ нужно, и гораздо пагубнее были ея плоды y {229} насъ, чемъ во всей прочей Европе. Это про нашихъ отечественныхъ романтиковъ, a не о французскихъ и темъ менее немецкихъ, можно сказать: «хоть земля подъ ними трещи, хоть погибай вся Россія на баррикадахъ, они все те же и все будутъ петь свои надзвездныя песни, такъ сказать, по гробъ своей жизни»...
Конечно, полнаго тождества между романтикой русской и французской или немецкой нетъ и не можетъ быть. Но нетъ ея и между революціями. Разница есть и тутъ, и тамъ. Но разница качественная, по разма-ху и глубине, a не по какому-то особенному смыслу, да еще религіозному, якобы впервые открывшемуся міру въ грязи и крови большевицкаго Октября.
Когда Достоевскій говорилъ: «Въ русскомъ народе, въ сущности, кроме православной идеи нетъ никакой», – это было такой же надзвездной романтикой въ чистомъ виде, какъ и утвержденіе Степуна (воспроизводящее буквально большевицкій штампъ) – «Русскій народъ возсталъ на царя и Бога во славу Маркса и Интернаціонала». Оба тезиса, обратно противоположные по содержанію, схожи «структурно», по надзвездно-романтическому своему, ирреальному существу. {230}
Примечания
1 Ср. очень интересный и содержательный этюдъ Н. А. Бердяева "Изъ размышленій о теодицее", въ .которомъ авторъ ставитъ себе задачу оправдать Бога отъ клеветы, которая на него возводится человеческими измышленіями. – "Есть отношеніе къ Богу, ко«торое есть последняя форма идолопоклонства въ міре. Не только къ ложнымъ богамъ, ио и къ истиному Богу возможно идолопоіклонническое отношеніе". И, съ другой стороны, – "нельзя Бога мыслить подобнымъ камню. Богъ не страдающій былъ бы несовершеннымъ и ущербнымъ Богомъ". И божество нуждается въ "кенезисе, уничиженіи, умаленіи, истощеніи". Вместе съ "небеснымъ монархизмомъ" и "имперіализмомъ" Бердяевъ особеино страстно изобличаетъ, – элеатское, "рабье поклоненіе" бездвижному и безтрагичному Богу. – "Путь" № 7.
2 Не трудно заметить, что углубленное постижение Ф. А. Степуна, которое онъ называетъ "метафизическимъ духоверіемъ", фактически сводится къ чисто арифметическому сложенію четырехъ методовъ постиженія, ближе всего связанныхъ съ именами: Бокля ("географія" или "душа русскаго пейзажа"), Маркса ("убожество" и "варварство" русскаго крестьянскаго хозяйства, какъ показатель "развитія производительныхъ силъ Россіи"), Гегеля (русская философія, какъ имманентное развитіе мірового духа) и известнаго сборника "Вехи" (порочность и греховность русокой интеллигенціи).
3 То же объясненіе различныхъ исходовъ обеихъ революцій cm. y M. A. Алданова въ его недостаточно оценеінной книге на французскомъ языке. «Lenine,» Paris, p. 193–194.