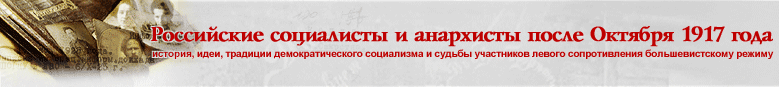
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Два пути: Февраль и Октябрь
| предыдущая | содержание | следующая |
СМЫСЛЪ ФЕВРАЛЯ
Четырнадцать летъ легло между нами и Февралемъ 17 года. Уже 14 летъ, воспринимаемыхъ часто какъ в с е г о 14 летъ!.. Такъ медленно тянутся «страшныя лета», «расплавленные годы народныхъ бурь и мятежей», – считая по скромному портъ-артурскому разсчету, месяцъ за годъ, психологически равные 168 годамъ, – целой исторической э п о х е.
За это время успели уйти изъ жизни многіе виднейшіе деятели Февраля, участники и виновники его успеховъ и срывовъ. Не стало ни министра-председателя февральской революціи кн. Львова, ни будущаго председатели совнаркома Ленина, ни присяжнаго оппонента и критика того и другого, Мартова. Умерщвлены – или покончили съ собой – Кокошкинъ, Шингаревъ, Корниловъ, Калединъ, Чхеидзе, Набоковъ, Савинковъ... Какія все разныя политическія біографіи и революціонныя «карьеры»! Какія разныя, въ большинстве – трагическія, смерти!... И все же объединенныя вместе. По разному вложившись въ Февраль, приветствуя или понося, охраняя, тормозя или «углубляя» его, все названные оставили свой индивидуальный следъ на февральскомъ {231 } періоде русской революціи, и сами ушли въ исторію, отмеченные знакомъ Февраля.
Говоря о событіи, естественно вспомнить – и помянуть людей въ немъ участвовавшихъ. Но поминая въ исторію отошедшихъ людей, нельзя не задуматься вновь и надъ темъ физически непреходящемъ и, въ этомъ смысле, вечномъ, чемъ исполнена исторія вообще и отдельныя ея отрезіки въ частности. Если съ этой целью отойти отъ злобы сегодняшняго, политическаго дня и, обернувшись на «168 летъ» назадъ, вглядеться въ Февраль 17 года исторически, то нельзя не увидеть, что на протяженіи в с е г о четырнадцати летъ Февраль представляется намъ y ж е не такимъ, какимъ все мы его знали и пережили.
Наше поколеніе и, въ частности и въ особенности то теченіе, къ которому принадлежитъ и авторъ, слишкомъ неразрывно слито съ Февралемъ, слито всячески, – политически и духовно, – чтобы отреченіе отъ Февраля не было въ то же время и отреченіемъ отъ самихъ себя, не было бы безвкуснымъ и никчемнымъ самобичеваніемъ. Ни въ малой мере не отрекаясь, поэтому, ни отъ Февраля, ни отъ своей съ нимъ слитности, мы все же не можемъ не признать, что, глядя на Февраль изъ 14-летняго далека, мы видимъ, что многое для насъ въ немъ переставилось. Въ страстяхъ и мукахъ пережитаго многое стало чувствоваться по иному. Многое по иному – и осознаваться1. {232}
...«Все это можетъ показаться
Смешнымъ и устарелымъ намъ,
Но, право, можетъ только хамъ
Надъ русской жизнъю издеваться.
Она всегда — межъ двухъ огней.
Не всякій можетъ стать героемъ,
И люди лучшіе – не скроемъ –
Безсильны часто передъ ней...»
А. Блокъ: "Возмездіе".
Если не «вводить земную исторію въ небесную», не выводить событія 17 года въ Россіи изъ самыхъ «последнихъ», апокалиптическихъ виденій и, съ другой стороны, не сводить этихъ событій къ первичнымъ, физико-географическимъ условіямъ подпочвы безкрайныхъ русскихъ равнинъ, степей, лесовъ и тундръ, – то. объясненія соціально-политическому явленію, какимъ прежде всего является революція, необходимо искать въ ряду соціально-политическомъ. И здесь объясненіе просто и, можно сказать, общепризнано. Февраль объясняется двумя, роковыми для русской исторіи и государственности, просрочками: запоздалой и неполной ликвидаціей крепостного права и пересрочками въ ликвидаціи самодержавной формы правленія. И экономическая отсталость Россіи, и культурная неразвитость массъ, ихъ «пассивность» и «анархизмъ», оторванность отъ народа интеллигенціи, ея «нигилизмъ» и «марксизмъ», неустойчивость классовыхъ деленій и отсутствіе національнаго, общегражданскаго сознанія, и тысяча и одна другихъ, большихъ и малыхъ «причинъ» и обстоятельствъ, отягчившихъ ходъ русской революціи, – все они находятъ свое объясненіе въ затянувшейся оттяжке экономическаго и политическаго раскрепощенія Россіи. {233}
Это объясненіе настолько неоспоримо, что фактически такъ объясняютъ русскую революцію даже те, кому вообще она представляется загадкой, a «основной источникъ русской революціи» видится не въ объективныхъ условіяхъ существованія «народа» и вообще не въ «народе» (всюду кавычки оригинала), который есть въ этой драме страдательное лицо, гораз-до более жертва революціи, чемъ ея деятель, a въ отравленіи интеллигенціи соціалистическимъ максимализмомъ»; кто расцениваетъ русскую революцію, какъ государственноіе самоубійство руескаго народа (См. ст. П. Б. Струве, въ «Русской Мысли»).
Споръ П. Струве съ К. Зайцевымъ о томъ, какому изъ князей Голицыныхъ обязана Россія темъ, что «Ленинъ могъ разрушить русское государство въ 1917 году», – князю ли Дмитрію Михайловичу, не сумевшему добиться осуществленія конституціонныхъ «кондицій» Анны Іоанновны въ 1730 г., или предку его князю Василію Васильевичу, не сумевшему въ 1689 г., при царевне Софіи, добиться осуществленія проектировавшейся имъ земельной реформы, представляетъ, конечно, интересъ, но въ данномъ случае – интересъ частный и академическій. Существенно не то, что именно считать более важнымъ и требовавшимъ более спешнаго и неотложнаго разрешенія – вопросъ о з е м л е или вопросъ о в о л е. Существенна взаимообусловленность обоихъ этихъ вопросовъ. Она отсутствовала въ прежнихъ, запоздалыхъ и робкихъ попыткахъ къ разрешенію каждаго изъ нихъ порознь и несогласованно. Революція навсегда покончила съ такими попытками. A что Струве и после революціи продолжаетъ думать, что и въ начале XIX в. для русской власти ставилась задача личнаго освобожденія {234} крестьянъ и созданія крестьянской собственности въ рамкахъ крепостныхъ отношеній, a Зайцевъ и по сей день сомневается въ «экономической перезрелости крепостного права уже при Николае I – это представляетъ только личный интересъ для характеристики историческаго глазомера и политическаго кругозора обоихъ писателей.
Не более ли глубокимъ и правильньгмъ было заключеніе В. В. Розанова, «когда начальство ушло», поставившаго передъ собой вопросъ: «Можно ли сказать, что русскіе имели свою исторію?» и ответившаго – «Сомневаемся. Была исторія русскаго терпенія, a не, исторія Россіи, какъ нравственнаго лица»!...
Русскій абсолютизмъ имелъ свое подобіе западно-европейской исторіи преодоленія абсолютизма. И русскій абсолютизмъ долженъ былъ преодолеть свои центробежныя, конкурировавшія съ единымъ и нераздельнымъ суверенитетомъ самодержца силы. Давно уже была доведена до победнаго конца и борьба царя съ русскими «феодалами», съ удельнымя князьями и вечевыми домогательствами, и борьба его съ съ русской Церковью и патріаршимъ престоломъ. Закончились успешно и «собираніе» русской земли, и «борьба со степью», освоеніе государственной территоріи и колонизація окраинъ, – т.е. все то, чемъ исторически объяснялось и оправдывалось самодержавіе съ его всеобщимъ закрепощеніемъ государевой службе и земле. Русскій абсолютизмъ перешелъ уже отъ полицейскаго, «приказнаго» государства первыхъ Романовыхъ къ «просвещенному» абсолютизму Петра и Екатерины . Поместная служба государству «конно, людно и оружно» была упразднена и формально. Но помещичье душевладеніе и отношеніе ко {235} всемъ слоямъ населенія, какъ государевымъ холопамъ и сиротамъ, осталось. Осталось неоправданнымъ и по существу повисшимъ въ воздухе на сто и полтораста летъ теократическое, патріархально-вотчинное властвованіе надъ землей и людьми, надъ территоріей и населеніемъ. И оно дожило до 20-го века. "La Russie appartient а toute notre famille" – говорилъ одинъ изъ Романовыхъ, оспаривая право Никояая II подписывать манифестъ 17 октября 1905 года. Самъ Николай II сохранилъ до самаго, можно сказать, последняго дня своего царствованія средневековое, патримоніальное представленіе объ отношеніи между царемъ и народомъ.
Поистине, самодержцы умираютъ, но не сдаются... Именно потому исторія последнихъ полутораста летъ царствованія Романовыхъ и была исторіей борьбы за сохраненіе отжившихъ крепостного права и самодержавной формы правленія вопреки политической, экономической и психологической, не говорю уже о моральной, необходимости срочной ихъ ликвидаціи.
Обратной стороной того, что Россія слишкомъ доаго оставалась подъ властью никемъ и ничемъ неограниченнаго, личнаго деспотизма, явилось то, что Роосія слишкомъ долго оставалась страной р a б с к о й.
Подъ непосредственнымъ впечатленіемъ отъ режима Павла 1, упразднившаго жалованныя грамоты Екатерины и говорившаго: «Кто такой русскій дворянинъ? Дворянинъ это тотъ, съ кемъ я разговариваю, и только до техъ поръ онъ дворянинъ, пока я съ нимъ разговариваю», еще Сперанскій констатировалъ наличность въ Россіи всего двухъ сословій: «рабовъ верховной власти и рабовъ землевладель- {236} цевъ». Оба сословія могли вместе съ Сперанскимъ ощущать, что «образъ правленія отстаетъ отъ гражданскаго образованія», могли питать одинаково враждебныя чувства къ темъ и другимъ господамъ, къ помещикамъ душевладельцамъ и къ держателямъ верховной власти. Но за пределы рабскаго оказательства своихъ чувствъ ни те, ни другіе не выходили. Крестьяне бунтовали. Дворяне били челомъ. И тутъ, и тамъ результатъ получался одинаковый, точнее – не получалось никакого результата. Земля для однихъ, воля для другихъ, Земля и Воля для весьма немногочисленныхъ третьихъ продолжали оставаться въ области заветнаго, но не осуществимаго. Исторія последнихъ 150 летъ, съ пугачевскаго бунта начиная и продолжая «возстаніемъ декабристовъ», «возстаніемъ» петрашевцевъ, движеніемъ землевольцевъ, народовольцевъ, чернопередельцевъ, эсъ-деков, эсъ-эровъ и т.д., есть исторія по преимуществу инстинктивнаго и стихійнаго, медленнаго, но почти непрерывнаго подтачиванія и подрыва строя, установившагося при Екатерине П, когда, съ предоставленіемъ особыхъ привилегій дворянству и окончательнымъ закрепощеніемъ крестьянства, «право крестьянское» и «право барское», «дворянское» окoнчaтeльнo отвердели и окончательно разошлись.
Не потому ли и предугадалъ Пушкинъ безсмысленную и безпощадную природу русскаго б y н т а, что. глубже другихъ проникъ въ природу русскаго с a м о в л а с т і я?!
Правившая Россіей верхушка не отдавала себе яснаго отчета ни въ потребностяхъ государства, ни въ своихъ собственныхъ интересахъ. По свидетельству Ключевскаго, правившій Россіей слой представлялъ {237} собою лишь «кучку физическихъ лицъ разнообразнаго происхожденія, объединенныхъ только чинопроіизводствомъ», «действующую вне общества и лишенную всякаго соціальнаго облика». «Въ господствующемъ землевладельческомъ классе, отлученномъ отъ остального общества своими привиллегіями, разслабляемомъ крепостнымъ трудомъ, тупело, – по выраженію того же историка, – чувство земского протеста и дряхлела энергія общественной деятельности».
«Аграрно-аристократическое» государство въ Россіи не удалось. Русское первенствующее сословіе оказалось не на высоте поставленныхъ Россіи исторіей задачъ. И поместное дворянство, разбитое и побежденное, ушло съ исторической сцены, можно быть увереннымъ, – навсегда.
Не многимъ, однако, завиднее была роль и другого привиллегированнаго слоя, претендовавшаго на руководящее положеніе въ государственномъ строительстве, – класса торгово-промышленнаго. По несколько, правда, запоздалому признанію нынешнихъ идеологовъ этого класса, оказывается, – въ Россіи вообще «торгово-промышленнаго класса не было. Были люди, коггорые торговали, занимались промышленностью... Была промышленность, и въ некоторыхъ отрасляхъ образцовая, которая сделала бы честь любой стране. Была y насъ и торговля. Но не было торгово-промышленнаго класса». Было торгово-промышленное н a с е л е н іе, занимавшееся одинаковымъ деломъ, но весьма далекое отъ сознанія общности даже своихъ групповыхъ интересовъ, своего единства и назначенія въ государстве, своей силы, своихъ обязанностей и правъ и, главное, весьма далекое отъ {238} воли къ борьбе за свои права и темъ самымъ за право вообще (Ср. чрезвычайно интересный докладъ проф. Ельяшевича: «Соціальныя и правовыя последствія русской революціи», составленный для Съезда представителей торговли и промышленности въ Париже въ 1921 году).
Какъ это ни парадоксально по форме, но именно отсутствіе среднихъ классовъ, «устраивавшихъ» победоносныя революціи въ другихъ странахъ, послужило одной изъ причинъ русской революціи. Оно же въ значительной мере вызвало и ея срывъ и крушеніе. Русское «третье сословіе» не выполнило той исторической миссіи по устраненію абсолютизма, которая повсеместно выпадала на долю этого «сословія» въ другихъ стргнахъ. Оно не только было «ничемъ» въ дореволюціонной самодержавной Россіи. Оно и не пыталось стать «всемъ» и во время революціи. У него не оказалоюь ни силы, ни веры ни въ себя, ни въ свое будущее. И неблагодарную и трудную повинность по уборке и сноске авгіевыхъ конюшенъ русскаго абсолютизма пришлось нести, въ числе другихъ повинностей, ч е т в е р т о м y сословію, – веками вне культуры и государственнаго сознанія пребывавшему, темному, забитому и къ государственному строительству не подготовленному.
Веками держали и пріучали трудовые низы къ тому, что государственное дело не ихъ дело: дело «низкихъ подданныхъ» и «крещенной собственности» исправно и покорно нести свое тягло, a объ ихъ нуждахъ и нуждахъ государства своевременно озаботятся спеціальные о томъ радетели и Богомъ данные застутшки, царь-батюшка и поставленные отъ него начальники. И въ теченіе вековъ пробуждалось, росло {239} и крепло въ трудовыхъ низахъ недоверіе къ государственнымъ верхамъ, отталкиваніе отъ непомерной тяжести крепостного права, отъ самовластія и насилія, отъ лихоимства и самодурства не перестававшихъ скоблить кожу съ народа властителей. Крестьянское право и христіанская правда не умещались въ уготованныхъ русскимъ самодержавно-православнымъ государствомъ условіяхъ жизни. И люди убегали отъ «нормальныхъ» условій жизни въ леса, скиты и пещеры, сжигали себя на огне, чтобы спастись отъ власти антихристовъ на престоле. Русская революція 17 года въ преемственномъ, не смысловомъ, порядке является эпилогомъ не замиравшаго за все время царствованія Романовыхъ бунташнаго движелія русскихъ трудовыхъ массъ.
Былъ еще одинъ – не столько претендентъ, сколько заднимъ числомъ выдаваемый за претендента на руководство русской государственностью, – слой. Это – внеклассовая – или внесословная интеллигенція.
По мненію проф. Франка, интеллигенція «сыграла въ Россіи, за отсутствіемъ настоящей сложившейся буржуазіи, роль tiers etat». Стоя «по своему соціальному, бытовому и образовательному уровню гораздо ближе къ низшимъ слоямъ, чемъ къ господствующему классу», интеллигенція «первая поняла значеніе бунта и явилась авангардомъ того нашествія внутреннихъ варваровъ, которое переживала и переживаетъ Россія» (См. «Изъ размышленій о русской революціи» – «Русская Мысль» № 6 за 1923 г.).
Верно, что русская интеллигенція была по своему соціальному и бытовому составу ближе къ низшимъ слоямъ, нежели къ слоямъ господствовавшимъ. Но со- {240} вершенно неверно, что интеллигенція п е р в a я подняла знамя бунта и оказалась въ авангарде внутреннихъ варваровъ, затопившихъ своимъ «мужицкимъ потопомъ» всю русскую государственность и культуру. Появленіе интеллигенціи въ Россіи совпадаетъ по времени какъ разъ съ темъ моментомъ, когда русское самодержавіе оказывалось уже отработаннымъ паромъ исторіи. Мудрено ли, что и русская интеллигенція съ молокомъ матери впитала въ себя отталкиваніе отъ пережившей историческіе сроки власти. И власть, въ свою очередь, не переставала отталкивать интеллигенцію отъ себя, не переставала ее гнать и терзать. Отъ Новикова до Радищева, чрезъ декабристовъ, Пушкина, Чаадаева, Герцена, Чернышевскаго, Достоевскаго, Толстого и до нынешнихъ радикальныхъ партій, преемственно вьется нить Аріадны, съ помощью которой только и удалось, въ конце концовъ, русскому народу выбраться изъ лабиринта самодержавія.
Только въ совершенно условномъ и аллегорическомъ смысле можно говорить объ особой роли, сыгранной русской интеллигенціей, – вооруженной одной лишь словесной «пращей» – въ низверженіи Голіафа-самодержавія. Задолго до ея появленія на исторической авансцене сотрясались устои русской государственности слепымъ Самсономъ, и «мужицкій потопъ» уже не одинъ разъ заливалъ и московскую державу, и «северный парадизъ». «Внутренніе варвары» не ждали своего авангарда, чтобы подяять знамя бунта. Бунташная Россія на полтора века раньше интеллигенціи подняла свое знамя въ интересахъ «всей черни», поруганной веры, свободы и своего права въ томъ смысле, какъ, отталкиваясь отъ романовской государственности, понимали свободу и право «внутренніе варвары». {241}
Русская интеллигенція вложилась въ эту борьбу полностью, всемъ сердцемъ и помышленіемъ своимъ. Не отъ «завидующаго честолюбія», какъ принято теперь инсинуировать по адресу русскихъ радикаловъ, не отъ соціальной «обиды», и не отъ «глухой злобы» или «слепой ненависти» къ носителямъ власти и владеющимъ матеріальными и духовными благами, – по скольку было и это», оно пришло позднее, п о с л е победы. Для «русскихъ радикаловъ» характерна была безкорыстная, зрячая, с в я т a я ненависть. Они ничего ие искали для себя. Они искали для другихъ, для рабочихъ, для народа.
Царская власть фактически противопоставляла себя народу. Командующія группы противостояли народу соціально и психологически. Трагедія – и проклятіе – русской интеллигенціи состояли въ томъ, что она борьбой противъ самодержавія вынуждалась идеологически противополагать царю – страну, государству – общество, власти – народъ. Недоверчивое и враждебное отношеніе къ власти и государству стало традиціоннымъ для русской интеллигенціи. Почти столь же традиціонными стали и «пораженческія» настроенія среди интеллигенціи. Въ этомъ отношеніи западники столь же характерны, какъ и славянофилы, и народники могутъ занять место въ томъ же ряду, что и русскіе марксисты и либералы. Вся исторіософія такого умереннаго «радикала», какимъ былъ В. О. Ключевскій, въ сущности сводится къ одному основному противоположенію: (русское г о с y д a р с т в о п y х л о въ то время, какъ народъ хирелъ. Ключевскій по-стоянно вынужденъ противополагать государственную казну – народному благосостоянію и средствамъ; за- {242} дачи государства – народнымъ силамъ и самосознанію; матеріальную деятельность государства – духовной работе народа.
Я вспоминаю характерный разговоръ съ М. О. Гершензономъ въ мае 18 года, уже при большевикахъ. Бывшій единомышленникъ Струве, после революціи пятаго года приглашавшій въ «Вехахъ» благословлять ту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждаетъ насъ отъ ярости народной, теперь, когда благоісловенная власть пала, доказывалъ положительность того громаднаго дела, которое сделала революція: она обнажила существо власти, до осязательности наглядно показала каждому, что государственная власть это – палка, г о л a я палка...2.
Если такимъ могло оказаться отношеніе къ государству со стороны обличителя интеллигентскихъ предразсудковъ въ самый разгаръ разнуздавшейся «ярости народной», не приходится уже удивляться отрицательному отношенію къ государству со стороны техъ, кто не переставалъ находиться въ состояніи постоянной войны съ русскимъ деспотизмомъ. И когда пришла міровая война, которая, въ отличіе отъ предыдущихъ, была войной не державъ, a народовъ-націй, и предъявила свои требованія и къ русской націи, оказалось, что такой не существуетъ, она еще не успела сложиться, не-смоггря на вековое существованіе отдельныхъ э л е -м е н т о в ъ націи. Были отличные «бойцы» и боевыя части изъ пермяковъ и вятичей, сибиряковъ и «хохловъ»; были сельскіе хозяева и земледельцы; купцы и промышленники; рабочіе и ученые; правители и под- {243} властные, подчинявшіе,ся за страхъ, a не за совесть. Не было ни власти, ни народа, ни арміи, ни классовъ, проникнутыхъ сознаніемъ своего національнаго единства и нераздельности своего бытія съ государственнымъ бытіемъ Россіи; не обнаружилось достаточиой воли къ бытію какъ націи.
И чемъ дальше затягивалась міровая война, чемъ неотступнее становились ея трсбованія и безповоротнее неудачи Россіи, темъ очевиднее становилось, что война ставитъ передъ русскимъ народомъ дилемму: или стать вровень съ векомъ и своими союзниками – a отчасти и противниками – и, поднявшись до уроівня націи, получить все-таки некоторый шансъ на победу, или, фатально, следуя инерціи разложенія русскаго государства и арміи, заведомо итти на пораженіе и на новую отсрочку ликвидаціи самодержавія и связаннаго съ ней преображенія русской «державы» въ «націю». Война «минировала» русскую революцію въ 17 году, какъ «минировала» ее и въ пятомъ году или въ 1870 году во Франціи или въ 1918 году въ Германіи. Даже германская революція, по описанію ея историковъ, была не столько совнательнымъ и подготовленнымъ возстаніемъ противъ режима Гогенцоллерновъ, сколько, по выраженію историка германской революціи Штребеля, «самораствореніемъ старой системы». Съ темъ большимъ основаніемъ надлежитъ то же сказать о революціи въ Россіи. Не потому «сделали» революцію, что русскіе солдаты не захотели воевать, a потому и не захотели русскіе солдаты воевать, что революція уже «сделалась» – въ умахъ и чувствахъ: слишкомъ очевиднымъ и ощутимымъ сделалось почти для каждаго, внизу и наверху, отъ завшивевшаго окопнаго бойца и до высша-го генералитета и великихъ князей, что при утвердив- {244} iемся порядке веденія войны – войны народовъ – все усилія обречены на неудачу.
Февральская революцію была въ известной мере рефлекторнымъ движеніемъ русскаго народа на требованія войны и военныя неудачи. На тьму и безправіе, въ которомъ держала «свой» народъ историческая русская власть. на гнетъ и отстраненіе отъ государственнаго строительства въ теченіе вековъ, русскій народъ ответилъ революціей въ одну изъ самыхъ критическихъ минутъ своей исторіи. Почувствовавъ неустойчивость чуждой ему власти, онъ мигомъ сотрясъ ее съ себя, даже не задумываясь о последствіяхъ, какія такое сотрясеніе можетъ иметь для него самого и для Россіи.
Февральская революція шла подъ знакомъ свободы, – раскрепощенія частичнаго, политическаго, для однихъ, раскрепощенія всяческаго – отъ войны и гнетa національнаго и соціальнаго, по мненію другихъ. Сверженіе самодержавія, какъ системы политическаго деспотизма, – объединило все партіи, классы и національности Россіи. Но совпаденіе во в р е м е н и множества задачъ, въ другихъ странахъ разрешавшихся разновременно, безмерно отягчило русскую революцію и, въ конечномъ счете, сломило ее. Передъ россійской революціей 17 года стояли те же вопросы, что и передъ революціями англійской въ 17 веке, французской въ 18 в. и германской 19-го. И еще одинъ, сверхъ того, труднейшій – вопросъ о скорейшей ликвидаціи войны. Для успешнаго разрешенія этихъ вопросоівъ, вместе взятыхъ, Россія была недостаточно развита соціально: отдельные классы не были достаточно дифференцированы; народъ въ целомъ, поверхъ классовыхъ противоречій, не былъ {245} достаточно «интегрированъ» общегражданскимъ сознаніемъ и волей. Для разрешенія всехъ вопросовъ, вместе взятыхъ, революція пришла, можетъ быть, с л и ш к о мъ р a н о. Ho для разрешенія каждаго изъ нихъ въ отдельности и, въ частноісти и въ особенности, вопроса о ликвидаціи самодержавно-сословнаго строя, революція пришла слишкомъ поздно. И она разделила судьбу всехъ запоздалыхъ решеній. Придя въ моментъ крайняго истощенія народныхъ силъ, она сделала еще более острыми и чувствительными вопросы и безъ того острые и чувствительные. За победу, одержанную надъ революціей Столыпинымъ въ 1906-7 гг., за пересрочку ея на новыя десятилетія, исторія отплатила затяжнымъ углубленіемъ революціоинаго прогресса. Русская нація не могла родиться б е з ъ того и д о того, какъ самодержавіе не было упразднено, земля передана трудящимся, національности освобождены, миръ заключенъ и т.д. Но каждая изъ этихъ задачъ могла быть благополучно разрешена только при наличности здороваго національнаго сознанія.
Безкровная и светлая февральская революція могла отталкиваться отъ кровопролитія, но не отъ целилительнаго переливанія крови, необходимаго для возстановленія обмена и жизнедеятельности рожденной націи. И въ самомъ процессе революціи, на ходу, стали переставляться содіальные классы и группы. Вместе съ перераспределеніемъ труда и богатства стали перемешаться центробежныя и центростремительныя силы государства.
Февральская революція покончила съ роковымъ противопоставленіемъ власти и народа. Народъ и власть слились: народъ сталъ властнымъ, власть стала народной. Но прошлое, тяжелая историческая наследствен- {246} ность, продолжала тяготеть и надъ властью, и надъ на-родомъ. Власть, какъ власть, продолжала внушать опасеніе и недоверіе, продолжала почитаться зломъ, синонимомъ произвола и символомъ стараго порядка. И вышедшая изъ революціи новая власть въ рукахъ народа-победителя оставалась безсильной и непрочной. За ней отрицалось право принужденія, утверждалось лишь право моральной проповеди и увещанія. Не надолго сумело «четвертое сословіе» слить свои интересы съ интересами русской государственности и націи. Къ с в о е й власти народъ оказался особенно требовательнымъ. Онъ слишкомъ долго молчалъ, чтобы не завопить истошнымъ голосомъ, когда разверзлись, наконецъ, его зеницы и уста. И после восьмимесячныхъ бореній подъ обломками рухнувшей державы Романовыхъ оказался придавленнымъ и рвавшійся въ теченіе вековъ къ свободе русскій народъ.
Можно скорбеть, что революція въ Россіи пришла слишкомъ поздно – или слишкомъ рано, во время, a не после войны, – во всякомъ случае, въ неурочный часъ русской исторіи. Можно отрицать фатальность соціологическаго закона, ныне защищаемаго П. Н. Милюковымъ, будто всякая революція «д о л ж н a следовать своему неизбежному курсу и не можетъ остановиться на середине. Революціонный пожаръ д о л ж е н ъ выжечь до тла все, что уцелело отъ низвергаемаго порядка». Но только утверждая вместе съ П. Б. Струве, что «въ известномъ смысле «народъ» абсолютно безспоренъ, лишь поскольку онъ сданъ въ мертвецкую исторіи» — и что «въ известномъ смысле «народъ» творится и долженъ быть творимъ», – можно» не видеть принципіальнаго, гранеполагающаго отличія между самодержавіемъ и Февралемъ и Февралемъ и Октябремъ, съ {247} другой стороны. При самодержавіи, – какъ и при большевизме, – народъ на самамъ деле «былъ творимъ». Въ Феврале анъ сталъ творцомъ, сталъ самъ творить свою исторію. Это творчество оборвалось. Но кто рискнетъ всерьезъ утверждать, что оно и кончилось? Что «безспорность» русскаго народа на томъ только и зиждется, что онъ снова очутился въ «мертвецкой»?...
Нетъ, февральская революція не была государственнымъ самоубійствомъ русскаго народа, какъ утверждаетъ Струве. Она не была неудавшимся п о к у ш е н і е м ъ на самоубійство, какъ б y д y т ъ утверждать Струве и его единомышленники позднее. Какъ разъ наоборотъ. Февральская революція рождена напряженной волей къ жизни, смелой попыткой желающаго жить и государственно жизнеспособнаго народа сделать свою жизнь менее подверженной случайностямъ и более устойчивой. Въ этой воле къ жизни и с в о б о д е, индивидуальной и государственной, и заключается то непреходящее и вечное въ Феврале, что не можетъ быть скомпрометтировано никакими дефектами эмпирическаго осуществленія или надругательствомъ временно восторжествовавшаго Октября.
2.
Чемъ менее завершена Нація, темъ более является она объектомъ критики, a не исторіи.
Фр. Шлегель.
Непреходящее значеніе и историческій смыслъ Февральской революціи въ томъ, что ею рождена р y с с к a я н a ц і я. Кто пережилъ февральскіе дни, для {248} того это непререкаемо; тотъ не можетъ не согласиться со словами 3. Н. Гиппіусъ: «Печать богоприсутствія лежала на лицахъ всехъ людей, преображая лица. И никогда не были люди такъ в м е с т е, ни раньше, ни после». Кто не пережилъ февральскихъ дней, для того «печать богоприсутствія» въ нихъ недоказуема.
Шустрые фельетонисты, всегда отличавшіеся короткой памятью, могутъ сейчасъ, заднимъ числомъ, въ обстановке торжествующаго Октября и въ зарубежномъ удушье, издеваться надъ февральской свободой. Но т о г д a февральская революція вызвала всенародный восторгъ, общенаціональное признаніе. Все спешили пріобщиться къ ней и породниться. Не будемъ говорить о неофитахъ и ренегатахъ, всегда пламеннее другихъ свидетельствующихъ свою преданность новому кумиру. Но что писалъ тогда, и даже не въ первые дни и недели, тотъ же Струве!.. «Мы все испытали громадный и спасительный (!) нравственный толчекъ... Мы пережили историческое чудо... Оно прожгло, очистило и просветлило насъ самихъ» («Русская Свобода» № 1). Или другой обличитель Февраля – покойный кн. Евг. Н. Трубецкой: «Эта революція – единственная въ своемъ роде... Бывали революціи буржуазныя, бывали и пролетарскія, но революціи національной, въ такомъ широкомъ пониманіи слова, какъ нынешняя, русская, доселе не было на свете. Все участвовали въ этой революціи, все ее делали – и пролетаріатъ, и войска, и буржуазія, даже дворянство... все вообще общественныя силы страны».
Длительность февральской революціи исчисляютъ по разному. Одни днями, другіе месяцами. Кто датируетъ конецъ Февраля апрелемъ, кто іюлемъ, кто октябремъ. Какимъ бы срокомъ ее не исчислять, – она безъ {249} спора и сопротивленія покорила нравомъ все сердца и умы. Отъ окопнаго Михрютки и до вел. кн. Михаила, въ «пользу» котораго отказался отъ «своего» престола царь, – все и вся склонились предъ неотвратимой и пленительной силой «гласа божьяго»... И этотъ фактъ не погасимъ никакимъ временемъ и сроками, никакими последующими во времени более длительными событіями.
Конечно, ростомъ національнаго самосознанія не исчерпываются все законы и пророки. Не съ него начинается и не имъ кончается исторія человека, народа и человечества. Въ логическомъ и ценностномъ ряду общечеловеческое является и более высокимъ, и более универсальнымъ и многомернымъ. Но національное и общечеловеческое не два разныхъ міра или понятія, противостоящіе другъ другу. Здесь одно находится въ другомъ. Эмпирически данная нація светится и освящается въ меру воплощенія въ ней обще-человеческаго. Относительной, но необходимой формой восхожденія человечества къ абсолютному, къ меж- вне- и сверх-національному является національная форма бытія и самосознанія. Ни одинъ народъ не можетъ творить своей исторіи безъ того, чтобы не иметь въ своемъ инвентаре національную революцію. Д о э т о г о исторію творятъ з a него, в м е с т о него, в о п р е к и ему. И февральская революція не только э п и л о г ъ трехвековаго періода русской исторіи. Она и п р о л о г ъ къ ея будущему.
Не въ переходе земли къ трудящимся; не въ освобожденіи изъ романовской «тюрьмы народовъ» заточенныхъ въ ней національностей и исповеданій; не въ спасительности для православиой Церкви того «рокового несчастья», которое «явила» собою революція {250} (Бердяевъ); даже не въ упраздненіи сословнаго строя и монархической формы правленія – главное и основное завоеваніе русской революціи. Оно – въ осознаніи народомъ своего бытія, какъ целаго и какъ единства, – осознаніи, непогашаемомъ никакими фактическими искаженіями и временными отпаденіями. Наличность національнаго самосознанія – необходимая предпосылка самаго государственнаго бытія въ XX веке. Ото показала русско-японская война. Это окончательно и безповоротно доказала и утвердила война міровая. Россія должна была стать вровень съ векомъ. И когда она никакъ не могла притти къ необходимому для ея существованія результату собственной волей, она была приведена къ нему «неволей».
У Глеба Успенскаго есть разсказъ «Волей-Неволей», где, по другому случаю, авторъ отмечаетъ эту роковую для русскаго человека необходимость постоянно брать «изъ опыта общечеловеческаго непременно последнее слово», брать «игольчатое» ружье, a не «кремневое». Ta же необходимость действовать и въ политической области, въ отношеніи къ внутри-государственной арматуре. Нельзя въ ХХ-мъ веке оставаться на уровне просвещеннаго абсолютизма XVII и XVIII вековъ. И не потому революція въ Германіи не сорвалась и, несмотря на войну и пораженіе, германская государственность не впала въ евразійскій коммунизмъ, что y нея нашелся Носке, a потому и нашелся тамъ Носке, что національное самосознаніе и воля къ сохраненію государственнаго бытія проникли въ самую толщу германскаго народа, войдя въ плоть и кровь неразрывно связанной съ народными массами соціалъ-демократіи.
Сейчасъ много пишутъ и спорятъ о томъ, что такое {251} революція. И не только русскіе историки, юристы, философы, соціологи и политики ищутъ, какъ точнее понять и определить революцію. Немцы успели не только уже завершить свою революцію, но и приступить къ теоретичіескому ея изученію. На недавнемъ съезде немецкихъ соціологовъ, спеціально собранномъ для заслушанія докладовъ и дебатовъ о Сущности революціи, уже изъ весьма умеренныхъ устъ можно было услышать безпристрастныя сужденія о томъ, что «революція соціологически такое же историческое явленіе, какъ и всякое другое. Прилагать къ ней ценностный критерій было бы совершенно неправильно. При известныхъ предпосылкахъ она развивается совершенно автоматически, a вовсе не является деломъ безсовестныхъ подстрекателей и агитаторовъ, какъ всегда утверждаетъ консервативная легенда. Ея теченіе обусловлено известными препонами и требованіями. Суеверный страхъ передъ ней такъ же безразсуденъ, какъ и заклятіе противъ хода исторіи»и т.д. и т.д. (См. Verhansttungen des Dritten Deutschen Sociologentages. Tubingen 1923).
Намъ, къ сожаленію, такой объективный и безпристрастный, «соціологическій» подходъ е щ е не данъ. Мы продолжаемъ изобличать русскую революцію, продолжаемъ въ изобличительныхъ целяхъ не различать ни фазъ, ни періодовъ, «амальгамируя», по примеру французскихъ якобинцевъ, всехъ деятелей революціи воедино и въ «смесительномъ уравненіи», какъ выражался Константинъ Леонтьевъ, компрометтировать февральскую революцію Октябремъ. Русскіе обличители революціи не замечаютъ даже своего э п и г о н с т в а, – того, что они лишь копируютъ и повторяютъ западно-европейскіе образцы. Если для проф. Ильина русская революція это прежде всего победа уголовныхъ и {252} каторжниковъ, амальгама революціонныхъ и уголовныхъ рецидивистовъ», то ведь задолго до него и французская революція изображалась Тэномъ, какъ «длительная и въ большомъ масштабе работа обезумевшихъ скотовъ подъ водительствомъ сошедшихъ съ ума глупцовъ»... И что спрашивать съ Ильина, когда и писатели съ большой политической культурой въ прошломъ отдаются темъ же страстямъ и настроеніямъ. Для Струве русская революція «всего больше глупое дело»». И даже для более тонкаго и осторожнаго Франка «теологически и исторически» всякая революція всегда безуміе, болезнь, «безсмыслица и потому {!?) преступленіе». Революція уподобляется Франкомъ попытке «съ помощью взрыва исправить недостатки паровой машины или съ помощью землетрясенія установить целесообразную распланировку города».
На одной этой уничижительной характеристике революціи размышленія Франка, однако, не останавливаются. И въ этомъ ихъ положительное преимущество въ сравненіи съ «размышленіями» другихъ обличителей, смесителей и хулителей. Въ прямое опроверженіе казовой безсмыслицы и преступности всякой революціи, Франкъ находитъ и въ русской и с м ы с л ъ «стихійно-телеологическихъ, какъ бы сверхчеловечески-космическихъ силъ исторіи», и о п р a в д a н і е. Трагизмъ, съ которымъ воспринимаетъ С. Л. Франкъ «болезненный кризисъ острой демократизаціи Россіи» и образованіе «мужицкой Россіи» на месте прежней, дворянской, Россіи Пушкина и Тютчева, Чаадаева и Герцена, Глинки и Чайковскаго, не скрываетъ отъ него ни корней, ни соціально-политическаго содержанія русской революціи. И тутъ авторъ съ полной отчетливостью развиваетъ положенія, какъ можно видеть изъ {253} сопоставленія съ предыдущими, весьма намъ близкія3.
С. Л. Франкъ отказывается различать между революціей и смутой: для него «всякая революція есть смута и всякая смута есть революція». Въ этомъ своемъ отказе Франкъ совершенно одинокъ. Подавляющее большинство вскрывающихъ «сущность» революціи считаетъ различеніе смуты и революціи определяющимъ для пониманія той и другой. Марксъ считалъ «необходимымъ отличать матеріальную смуту, отражающуюся на эконоімическихъ условіяхъ производства, отъ революціи, опрокидывающей идеологическія, т.е. юридическія, политическія, религіозныя и т.д. формы, при по- {254} мощи которыхъ люди отдаютъ себе отчетъ въ происшедшемъ конфликте». Для Іеринга – успешная или удавшаяся смута есть революція; смута подавленная естъ мятежъ, бунтъ. Такъ же и для Каутскаго: революція, которая не имела успеха, не есть революція. Для Энгельса – въ его переписке съ Марксомъ – «революція фактъ элементарный, естественный, управляемый физическими законами, a не моральными нормами». Наоборотъ, для Іеринга революція представляется борьбой за новыя правовыя ценности. Для Лассаля все право лишь простой итогъ революціи, которая наступаетъ тогда, «когда силой или безъ силы утверждается совершенно новый принципъ на место существующаго порядка».
Въ кругу техъ же идей вращается и Струве, утверждая, что соціологическое понятіе революціи немыслимо безъ отнесенія этого понятія къ праву, и определяя удачную или законченную революцію какъ бунтъ, ставшій правомъ; и проф. Лазерсонъ, когда онъ доказываетъ въ своей неболыиой, но чрезвычайно интересной работе «Революція и Право» (Рига, 1927 г.) какъ разъ обратное, a именно, что революція есть столкновеніе или «бунтъ» интуитивнаго права противъ права положительнаго.
Другіе изследователи сосредоточиваютъ свои доказательства главнымъ образомъ на томъ, что насиліе и кровь вовсе не необходимый элементъ и признакъ революціи. Существуютъ кровавые перевороты, напримеръ, петровскій или большевицкій, – и бываютъ кровопролитныя возстанія безъ того, чтобы они могли считаться революціями: напримеръ, возстаніе во Франціи въ 1774–1775 гг. противъ повышенія налоговъ и таксированія хлеба; въ 1767 г. въ Неаполе изъ-за налоговъ {255} на фиги; въ Голландін противъ новаго обложенія рыбы; противъ подушной подати въ Англіи и т.д. И, обратно, существуютъ революціи безкровныя, напримеръ, февральская во Франціи 48 года, походившая, какъ февральская революція въ Росеіи, скорее на праздникъ, нежели на катастрофу (по выраженію Луи Блана), революція младотурецкая и др. Авторъ книги, изъ которой я заимствую эти справки, – M. Ralea: «L'idee de Revolution dans les doctrines socialistes» – Paris, 1923 – имеетъ и свое собственное, не лишенное интереса, определеніе революціи. Оно складывается y него «синтетически» изъ трехъ элементовъ: соціальной среды, новой программы ценностей и перехода политической власти. При отсутствіи перваго элемента, т.е. безъ того, чтобы движеніе опиралось на группу, до этого властью не обладавшую, – имеется на лицо реформа, гражданская война, смена министерства, но не революція, При отсутствіи второго, т.е. новой единицы ценностей, «общественнаго идеала» или «интуитивнаго права», движеніе остается возмущеніемъ, возстаніемъ, бунтомъ, но не становится революціей. Наконецъ, безъ фактическаго перехода политической власти движеніе остается конспираціей, заговоромъ, преступленіемъ, караемымъ закономъ, но не становится революціей.
Все эти определенія, которыя можно было безъ труда продолжить, въ известной мере пріемлемы и въ той же мере недостаточны. Каждое изъ нихъ заключаетъ въ себе элементы вернаго. Но все они въ одинаковой мере не фиксируютъ, на нашъ взглядъ, г л a в н a г о. Революціи могутъ быть и не победоносныя, – какъ, напримеръ, русская въ пятомъ году. И революція далеко не всегда сопровождается торжествомъ более справедливаго права. Такое представленіе исходитъ {256} изъ неосознанной идеализаціи революціи, ведущей происхоіжденіе еще отъ стараго, романтически настроеннаго Мишле, видевшаго въ революціи «приходъ закона, воскрешеніе права, возстановленіе справедливости». Вообще «отнесеніемъ» революціи къ понятіямъ права или прогресса проблема революціи не исчерпывается. Въ революціи, неотменимы элементы незакономернаго, метаюридическаго и метаисторическаго.
Революція есть столкновеніе элементовъ государства – народа и власти, – отъ котораго взрывается целое – государство. Революція всегда имеетъ своимъ объектомъ и своей целью п y б л и ч н о е право, низверженіе – и утвержденіе – общественнаго и политическаго строя. Политическіе и соціальные интересы и цели питаютъ революцію, «стимулируютъ» ее, но не определяютъ. Классы вкладываются въ революцію, но творятъ и осваиваютъ ее націи. Говоря терминами большого французскаго ученаго Оріу, можно сказать: революція – профессія массъ, но она – ф y н к ц і я народа. Профессія осуществляется въ частномъ интересе, функція определяется общественнымъ интересомъ, ея «трасцендентностью» интересамъ того, кто ее осуществляетъ.
Конститутивный признакъ революціи – ея всенародность. И потому революція темъ «настоящее» и темъ «больше», чемъ ближе участвующія въ ней массы совпадаютъ физически со всемъ составомъ населенія, чемъ сильнее отдельные индивиды, группы, классы охвачены «мірскимъ» чувствомъ, пронизаны интересами сверхличнаго, трансцендеятнаго целаго». Съ этой точки зренія французская революція 48 г. б о л ь-ш е революціи не только 30-го, но 70–71 года, потому {257} что и коммуна 71 года не выходила за пределы местнаго, парижскаго эпизода. И въ этомъ смысле февральская революція 17 года несравнимо «больше» революція, нежели Октябрь.
Былъ ли Октябрь революціей – или переворотомъ – вообще решается не темъ, что Октябрь былъ насильствененъ, или оказался победоноснымъ или сделалъ интуитивное («советское») право положительнымъ; a темъ, – кто его делалъ: действовала ли въ Октябре нація? Была ли она активна? Воспринимали ли массы свое соучастіе въ Октябре, какъ частное и корыстное дело и только какъ такое, или ими владело сознаніе общаго, національнаго дела, государственнаго интереса? Именно потому, что Октябрь опирался по преимуществу на «шкурническіе» инстинкты, исходилъ не изъ сплоченія, a изъ разделенія, изъ партійной и классовой диктатуры и гражданской войны, a не изъ гражданскаго мира и народоправства, изъ идеи не національной, a міровой революціи, делавшей изъ Россіи простой «плацдармъ» и «детонаторъ» европейскихъ революцій и упразднявшей Россію, какъ національно-государственное единство, изъ грядущаго союза ССР, – Октябрь былъ, если угодно, ш т a б н о й революціей, но не революціей въ подлинномъ и единственномъ ея значеніи и смысле.
Где ничтожное меньшинство, пользуясь темъ, что оно вооружено и централизовано, опрокидываетъ самъ существующій порядокъ в м е с т о народа и создаетъ для народа новыя условія существованія, тамъ на лицо реформа, заговоръ, бунтъ, возстаніе, переворотъ, смута, что угодно, – но не революція. Только тамъ, где народъ главная и активно действующая сила, где народъ самъ разрушаетъ и творитъ, только {258} тамъ – подлинная революція. Въ Феврале действовалъ народъ, наличествовала національная стихія, и потому тогда была революція. Въ Октябре действовалъ центральный комитетъ партіи большевиковъ, революціонный комитетъ, военная организація, петроградскій советъ, «Викжель» и т.п., и потому тогда было возстаніе, закончившееся победой, но не сделавшееся отъ этого революціей.
Нетъ необходимости пространно доказывать, что Февраль не былъ лишь прологомъ или «прелюдіей» къ настоящей и подлинной революціи – къ Октябрю, явившемуся естественнымъ и логическимъ завершеніемъ Февраля. Такая исторіософія опрокидываетъ сама себя. Следуя ей, пришлось бы признать, что и самодержавіе есть лишь прологъ и прелюдія къ Февралю, – «естественному и логическому» завершенію самодержавія... Слишкомъ элементарно, что последовательность не есть зависимость и преемство во времени не равнозначно причинной обусловленности. Сводить все различіе между Февралемъ и Октябремъ къ разнице количественной, – значило бы повторить известный парадоксъ Макса Нордау о томъ, что между песчинкой кварца и Монбланомъ разница только въ степени.
Въ деленіи исторіи на періоды весь смыслъ историческаго познанія, и смыслъ всей «исторіософіи» въ различеніи отдельныхъ историческихъ періодовъ, «фазисовъ» и «стадій». Конечно, если брать en bloc все революціи міра, всю новейшую и даже всю новую, исторію, и все это вместе отнести къ одяой эпохе – Гуманизма и Ренессаанса, объединенныхъ общимъ «семенемъ» «богоотступничества» и «предательства» (передъ вечностью), по выраженію Бердяева, – тогда, {259} конечно, нельзя не брать en blос и русскую революцію, теряющую, вместе со всеми другими революціями, народами и исторіями ихъ развитія свои индивидуальныя черты и границы. Но если не обезличивать и не упрощать историческаго процесса, нельзя отказываться отъ более частной и конкретной періодизаціи исторіи, отъ осмысливанія и более короткихъ и менее общихъ отрезковъ времени въ жизни каждаго народа. Съ этой точки зренія нельзя не выделить въ особый историческій періодъ и моментъ рожденія русской націи, превращеніе объекта русской исторіи – народа – въ субъекта, исторію творящаго, моментъ осознанія эмпирическими русскими массами своего національнаго бытія.
Пусть недолгимъ и непрочнымъ было фактическое пребываніе русскаго народа въ образе и духе націи. Но оно было. Былъ періодъ, ксьгда все дышали одной грудью, когда пробудилась и осознала себя идея русской всенародности. Нельзя, конечно, ни на минуту забывать, что случилось после Февраля, не замечать происшедшаго позднее обнищанія и расчлененія Россіи, выпаденія Россіи изъ Европы, культурной ея деградаціи. Но необходимо смотреть и видеть поверхъ «текущаго момента», различать въ изменчивомъ устойчивое, въ преходящемъ историческое. И подъ коростою лютой злобы и ненависти къ чужеземдамъ и инородцамъ, которой преисполнены сейчасъ сплющенныя въ СССР сердца, нельзя не прощупать біенія живой націи.
Революція трагическа я и наименее желанная форма прогресса. Но она вместе съ темъ всегда національная форма зигзагообразно идущей жизни народовъ, всегда мучительное, но иногда необходимое и единственное разрешеніе унаследованнаго отъ прошлаго р о к а. {260}
Сколь ни трагично нынешнее подоженіе, Россіи, сколь ни безраздельно. торжество и «блаженство» нынешнихъ ея господъ, нельзя все же не видеть выхода и просвета. За кручами и буераками, трясинами и провалами нельзя не видеть столбовой дороги русской исторіи. Эта столбовая дорога проложена въ феврале 17 года. Возвратъ именно на эту дорогу неминуемъ. Это не будетъ, конечно, возвратомъ къ эмпирическому февралю 17 года. Тотъ февраль, благословенный – всеми благославлявшійся и доселе, по выраженію кн. Е. Трубецкого, никогда на свете не бывшій, – конечно, неповторимъ и не возстановимъ. Но живетъ и пребудетъ, пока будетъ жить Россія, и д е я Февраля, его метаисторическая сущность: Россія, преображенная Февралемъ въ націю.
Пусть помнятъ все, что рядъ столетій Россіи ведать суждено, Что мы предъ ними – только дети, Что наше время – лишь звено...{261}
Примечания
1 Достаточно сказать, что даже А. Ф. Керенскій публично высказался "противъ исторически даннаго Февраля во имя Февраля, заданнаго намъ исторіей", заявивъ себя "непримиримымъ противникомъ повторенія исторической действительности февральскаго періода русской революціи" (см. "Дни" № 58 за 1929 г.).
2 Следы того же настроенія легко отметить и въ поздней-шихъ письмахъ Гершензона къ Вяч. Иванову въ известной "Переписке изъ двухъ угловъ".
3 По объективному своему содержанію русская ревюлюція есть "процессъ проникновенія низшихъ слоевъ во все области государственно-общественной жизни и культуры и переходъ ихъ изъ состоянія пассивнаго объекта воздействія въ состояніе активнаго субъекта строительства жизни"... "Важно признать, что русская революція, сколько бы корысти и личной порочности ни обнаружили и носители ея власти, и участвовавшія въ ней народныя массы, есть проявленіе сверхличныхъ духовныхъ страстей".– И результатъ пріобщенія народа къ управленію? – "Какъ бы парадоксально это ни звучало въ обстановке безпощаднаго деспотизма советской власти, но старое, рабское, русское отношеніе къ власти, какъ къ инстанціи, чуждой подчиненнымъ и извне, съ какой-то недосягаемой высоты принудительно определяющей ихъ волю, совершенно исчезло изъ народнаго сознанія; ибо «коммунистическая власть ощущается народомъ вообще не какъ "высшая", верховная государственная власть, a просто какъ фактическая власть захватчиковъ, не имеюшихъ высшаго соціальнаго ранга; и распространенный сервилизмъ въ отношеніи къ этой власти основанъ на простомъ расчете, a не опирается на подлинное чувство государственной подвластности. И вместе съ темъ, одновременно съ отвращеніемъ къ коммунистической псевдо-власти, въ народномъ сознаніи растетъ потребность въ подлинной посударство-устрояющей власти и сознаніе ея необходимости. Глубокое, органичеокое народное влеченіе къ самоопределенію и самоустроенію – въ своемъ болезненномъ искаженіи приведшее къ бунтарству революціи – постепенно переходитъ въ народномъ самосознаніи изъ анархической стадіи въ стадію государсгвенную".