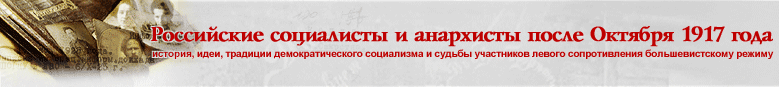
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Границы и трактовки предательства в российской революционной субкультуре1
Вопросы о том, что есть предательство и где находится та грань, за которой борьба революционера за смягчение, скажем, тюремных невзгод или его идейные метания и поиски перерастают в нечто совершенно неприемлемое для его товарищей, не были для революционеров чем-то отвлеченным и академическим, являясь скорее вопросами выживания и самосохранения. В ходе чуть менее, чем векового существования революционной субкультуры (с 60-х годов ХIХ в. до конца 30-х г. ХХ в., когда были физически уничтожены ее носители) понимание того, что есть предательство и что в него включается, формировалось постепенно, болезненно и не без серьезных разногласий.
Дабы не смешивать понятия, сразу оговоримся, что понятие предательства значительно шире терминов «секретное сотрудничество» и «провокаторство». Прекрасной иллюстрацией того, насколько широко и своекорыстно толковались порой понятия «предательство», «ренегатство», «провокаторство», могут служить слова Григория Ратнера, возглавлявшего группу подсудимых-ренегатов на процессе социалистов-революционеров 1922 г. : «<…>Здесь слово “ренегат” и слово “предатель” часто употреблялось. <…> Чтобы не заходить в этически слишком сложные рассуждения, я имею право ответить просто и ясно. Я и мои товарищи, здесь сидящие, мы прямые и открытые враги партии эсеров. С того момента, как мы таковыми себя объявили, и эту борьбу начали вести, тут уже отпадает всякий логический смысл обвинения в предательстве. Предателем враг быть не может. Предателями могут быть те, которые живут с вами или около вас. <…> А есть ли предательство дать показание и раскрыть действительную позицию и тактику партии эсеров? Мы не считали возможным на суде держаться тактики открещивания, отпирательства от своих действий, мы считали, что политическая партия, выходя на мировой процесс, не может говорить неправду»2.
Если попытаться выстроить иерархическую лестницу ступеней предательства (куда включалось и отступничество), по степени их одиозности и серьезности так, как это виделось революционерам, то это будет выглядеть следующим образом: «секретное сотрудничество» революционера с полицией, или «провокаторство»; «откровенное» показание на допросе, давшее в руки тайной полиции материал для арестов и обвинения его товарищей; сотрудничество с судом и поддержание обвинения на судебном процессе против своих товарищей (в качестве подсудимого или свидетеля); «выпутывание» на допросе, тем не менее давшее в руки тайной полиции материал для арестов и обвинения его товарищей; прошение о помиловании («колонисты», «прошенисты», «подаванцы») и прошение о смягчение участи; дача объявления в газету о разрыве со своей партией и отказе от своих убеждений или наличии разногласий с программой и тактикой партии (в советское время) («продаванцы»); дача подписки ( в советское время). Впрочем, это достаточно условная схема, куда не включено, так сказать, «идейное предательство», т.е. полный отказ от революционных убеждений и переход в противоположный лагерь (в качестве наиболее яркого примера раннего времени можно привести Льва Тихомирова, более позднего – Григория Семенова и Лидию Коноплеву).
Наиболее одиозным и наиболее ярким видом предательства, можно сказать, предательством в «чистом виде» считалось «секретное сотрудничество» революционера (по терминологии жандармов и чекистов) и «провокаторство» (по терминологии самих революционеров). Сразу скажем, что в жарких спорах о сущности и содержании этого явления, как правило, имевших отнюдь не академический интерес, было немало сломано копий самими современниками. В наиболее типичном и обобщенном виде на этот вопрос можно ответить следующим образом: «Роль провокатора двойная. С одной стороны, он является обыкновенным шпиком, на котором лежит обязанность присутствовать на всех собраниях революционеров, проникать на конспиративные квартиры, за всем следить, ко всему прислушиваться, обо всем докладывать; он должен, вкравшись в доверие товарищей, осторожно выпытывать обо всех готовящихся предприятиях и затем давать своим начальникам подробные отчеты о собранных им сведениях. Но это только часть и, если можно выразиться, наиболее почетная часть его темной работы. Власти требуют от него не только всестороннего внешней осведомления о деятельности революционеров. Они советуют ему вступать в партийные организации, где он, для того чтобы зарекомендовать себя, всегда является сторонником самых крайних мнений, самых опасных планов, самых рискованных действий. Он не ограничивается одним освещением. Он искусно добивается преждевременной развязки (провокации) событий в условиях, благоприятных или предусмотренных правительством, которому эти внезапные или покушения нужны для того чтобы навести ужас на население и тем оправдать худшие репрессивные меры торжествующей реакции»3.
Проблема провокации вставала во весь рост по мере развития революционного движения уже в 60-70 годы ХIХ века. Относительная массовость революционного движения уже в начале 70-х годов, накануне знаменитого «хождения в народ» в 1874 г., создала предпосылки того, что и провокация стала достаточно массовым явлением (хотя, конечно же, ни о какой строгой линейности и прямой зависимости, говорить в подобных делах не приходится). И тем не менее свою весьма ощутимую лепту в грандиозная волну арестов среди участников «хождения в народ» появившиеся среди пропагандистов предатели внесли, выдав товарищей, многие из которых затем погибли в тюрьмах. Лев Дейч по этому поводу вспоминал: «Вполне естественно поэтому, что предатели вызывали к себе со стороны социалистов чувства глубокой ненависти и злобы. Причиненный ими вред невольно наталкивал многих пропагандистов на мысль о мести, о необходимости расправы с ними, чтобы, действуя устрашающим образом, удерживать других от предательства. Но в течение первых лет подобные взгляды не выходили из области теории, т.к. пропагандисты были крайне мирными людьми. Только летом 1876 г. впервые произведена была попытка подобной расправы». Жертвой своих бывших товарищей пал Н.Горинович, который в 1874 г. не только выдал все, что знал, на допросах и тем самым добился освобождения из тюрьмы, но и 2 года спустя под чужим именем вновь стал пробираться в революционную среду. Его узнали и решили убить, однако он выжил, хотя и остался калекой на всю жизнь.
В дальнейшем подобного рода расправы получили более или менее широкое распространение в годы революции 1905-1907 гг. и после ее поражения. Самая громкая история подобного рода – это расправа БО ПСР над членом ЦК ПСР Татаровым в 1906 г. Несмотря на то, что для расследования вины Татарова была в 1905 г. создана следственная комиссия из членов ЦК ПСР В.М.Чернова, Б.В.Савинкова, А.А.Баха и Тютчева, убит Татаров был все же без приговора суда, да и сам факт этого убийства ЦК ПСР на себя взяло только три года спустя в феврале 1909 г. Но чаще провокаторов все же судили. Так, например, «в последних числах декабря [1905 г. Екатеринославский] Боевой стачечный комитет получил сведения о существовании в б-ской организации провокатора; бывшего члена ЕК, Самуила Черткова; Чертков был судим междупартийным судом (большевик Штейн, меньшевик Лука, он же Кузьма, с.-р. Сергей), написал собственноручное сознание, был приговорен к смерти и тогда же казнен»4
Все вышесказанное относится к совершенно ясному и бесспорному случаю сознательного провокаторства, а вот о допустимости поступления в секретные сотрудники с «революционными целями» в революционной среде долго велись споры. И хотя после трагического опыта Дегаева большинство революционеров, отрицательно относясь к таким экспериментам, пыталось утвердить запрет на это не только в неписаном «обычном праве» революционера (по меткому выражению Б.В.Савинкова), но и в писанных партийных циркулярах, практика эта все же продолжалась, о чем свидетельствуют, скажем, постановления III и IV Совета эсеровской партии (июнь 1907 и август 1908 г.), которые констатировали, что «вступление в переговоры с полицией без разрешения ЦК влечет за собой исключение из партии»5. Более того, роспуску подлежала любая партийная организация, дававшая разрешение на вступление своего члена в секретные сотрудники с той или иной целью. Но нарушали это постановление не только «товарищи-провокаторы», но и партийные руководители высокого ранга.
Столь парадоксальное и режущее слух словосочетание «товарищ-провокатор» было употреблено знаменитым охотником за провокаторами В.Л.Бурцевым в адрес А.А.Петрова6 – эсера, завербованного весной 1909 г. охранкой и признавшегося в этом своим товарищам, толкнувшим его во искупление греха на совершение террористического акта. Дело Петрова было совсем не единственным и даже по времени не самым первым делом такого рода, но оно стало одним из самых громких и скандальных, доставивших немало хлопот и властям и эсерам. 23 августа 1909 г. И.И.Фондаминским, Б.В.Бартольдом, Б.В.Савинковым и А.А.Петровым был составлен и подписан акт, в котором констатировалось, что «тов. Петров, по своему личному почину, без ведома кого бы то ни было из членов партии, в целях революционной борьбы, поступил на службу в Охрану в качестве секретного сотрудника, причем, <…> с его стороны не было сделано никаких указаний на революционную деятельность каких бы то ни было лиц и организаций и вообще никаких фактических сообщений о революционных делах и деятелях; что, затем, тов. Петров, убедившись, что им совершен поступок, противоречащий революционным традициям, недопустимый для революционера и наносящий существенный вред делу революции, пришел к сознанию необходимости обезвредить последствия своего поступка путем устранения им, тов. Петровым, одного из руководителей политического сыска в России». Заключительная часть акта гласила: «С своей стороны мы, представители ЦК ПСР и БО СР, заявили тов. Петрову, что намеченный им исход является единственным достойным и целесообразным для члена ПСР. Данный террористический акт может быть совершен только в пределах России или Финляндии, причем, о нем публикуется в органах ПСР как об акте политического террора, совершенного с ведома и одобрения партии с-р. В случае процесса товарищу Петрову предоставляется право заявить о том же на следствии и суде»7. Эта история закончилась грандиозным скандалом, когда после убийства А.А.Петровым недавно назначенного начальника столичной охранки полковника Карпова ( а убить он должен был знаменитого генерала Герасимова, своего руководителя), стало известно (с помощью Курлова и показаний А.А.Петрова), что он встречался с ним и тот, якобы подговаривал убить на конспиративной квартире своего заклятого врага товарища министра внутренних дел Курлова и Карпова, получившего пост начальника столичной охранки из его рук.
Руководство эсеровской партии оказалось в тяжелом и даже глупом положении. Сказать правду было равносильно признанию того, что руководитель боевой группы Б.В.Савинков и представитель ЗД ЦК И.И.Фондаминский втайне от членов ЦК, находившихся в России, и от членов ЗД ЦК грубо нарушили формальные установления двух Советов партии. С другой стороны, руководство партии понимало, что всей этой ситуацией оно серьезно дискредитировано в глазах как общественного, так и партийного мнения как неспособное установить жесткий контроль за действиями отдельных своих членов, тайно попирающих общепартийные постановления. В этих условиях руководство партии сочло за благо затушевать, сгладить все это дело, пойти на лживое сообщение.
Весной 1909 г. эсер-максималист М.Г.Рипс, завербованный в конце 1908 г. начальником Московской охранки фон Коттена, получил от своего “шефа” приказ о вступлении в БО ПСР. Приехав за границу, Рипс сознался своим товарищам-максималистам и покаялся. Ему предложили изложить на бумаге обстоятельства, причины и мотивы, толкнувшие его на поступление в секретные сотрудники. Его объяснения представляют огромный интерес с самых разных точек зрения: и с точки зрения того, как далеко могут зайти люди в снисходительном отношении к себе и в мастерстве оправдать и объяснить любые свои поступки; и с точки зрения того, как Рипс (как, впрочем, и любой другой “товарищ-провокатор”) подлаживался в своих записках под общепринятые в революционной среде нормы поведения и особенности ментальности своих товарищей (как он их понимал и представлял). С последней точки зрения, объяснения любого “товарища-провокатора” – это своего рода зеркало, хотя, безусловно, и кривое зеркало, представлений революционной среды о том, как должен вести себя революционер и что он должен чувствовать, оказавшись в подобной ситуации. Представляется, что и Рипс, и Петров, и другие, подобные им, конечно, излагали события не так, как они происходили, и описывали не то (или не только то), что они думали и ощущали, а то, что максимально могло оправдать их в глазах их товарищей, старательно подлаживаясь под комплекс норм и представлений, бытующих в революционной среде. Иначе говоря, пафосные и патетические писания Рипса позволяют судить не только о нем, но и о тех, кому он адресовал их.
В своих письменных объяснениях Рипс так описывал обстоятельства своей вербовки: “19 февраля 1909 года я был арестован в Москве на улице возле своей квартиры на Камер-Коллежском валу и препровожден в пресненский полицейский участок, откуда после обыска и составления протокола я был отправлен в охранное отделение и через 15 минут меня повели к допросу. Там я увидел то же самое лицо, которое меня допрашивало еще в 1906 году; как потом я узнал – бывший в то время помощ. Начальника московского охранного отделения , а теперь начальник того же отделения. Он сразу меня узнал и назвал по имени и фамилии; после чего я счел лишним запираться. Я спросил, что он со мной намерен сделать и получил ответ, что, во-первых, мне придется отсидеть 3 месяца, а после этого меня отправят в Якутскую область. Я встал чтобы уйти, но он меня задержал, заявив, что допрос еще не кончен. Мне были предложены вопросы, где я был все время после побега, где работал, чем занимался и т.п. полицейские вопросы. На все эти вопросы я заявил, что ничего отвечать не стану. Тогда он стал рассказывать о падении револ. сил, о том, что им известны всякие револ. начинания, что-де раньше, чем революционеры успеют даже взяться за какое-нибудь дело, им, мол, уже известно будет; при этом лицо его выражало столько подлого самодовольства, что я, стоявший раньше совершенно спокойно (ибо уже успел успокоиться), начал при этих его рассказах сильно волноваться, ибо мне вспомнился Азеф. И я понял тогда, что это не одно хвастовство. Наконец, я еще раз хотел уйти, но опять был задержан и тут же услышал предложение, которое заставило меня вздрогнуть. Он предложил мне поступить в охранники, т.е. в провокаторы. Странная злоба, ненависть охватила все мое существо: я пережил один из тех моментов, когда человек способен на самый безрассудный поступок – мне захотелось броситься на него хоть с голыми руками и душить, душить до смерти, отомстить и за свое оскорбление и за все их мерзкие дела, за провокацию, за все, за все , но рассудок взял верх и я сдержал себя. Было мучительно больно в этот момент помнить об Азефе и обо всех его деяниях. Эта мысль сверлили мозг; я уже почти не слышал дальнейших его слов, но несколько минут спустя мне послышалось вторичное предложение; я спросил его, что он сказал и получил ответ: “так я Вам предлагаю поступить к нам”. Я почувствовал, как вся кровь во мне закипела, прилила к мозгу и в этот момент я решил, что этот человек, так низко оскорбивший меня, оскорбивший во мне всю мою революционную честность, что этот человек стал моим личным врагом, что он позволил себе это, что я нахожусь в его власти, но я также понял, что эти предложения делаются потому, что не было еще у них хорошего урока, что они просто отвергались или принимались, но без риску для их шкуры. И тогда одна мысль, как молнией, поразила меня; а если ? А что если воспользоваться этим предложением, войти к ним в доверие и этим путем, во-первых, постараться узнать всех провокаторов, а затем отомстить, но так, чтобы они помнили это на всю свою гнусную жизнь, чтобы знали – предложения эти могут и им обойтись слишком дорого ! Мысли вихрем проносились в голове”8.
Далее Рипс писал, что противоположные чувства боролись в нем и он дал уклончивый ответ на третье предложение фон Коттена и задал ему вопрос: “а скажите, чем Вы гарантированы, что я войдя к Вам, не воспользуюсь этим как революционер?”
Желая сделать свою мотивацию логичнее и приемлемее для своих товарищей, он ставил себе этот вопрос в заслугу и патетически восклицал: “Я знал, что вопрос этот может натолкнуть его на подозрение, но я во чтобы то ни стало хотел выяснить, почему они так смело, не опасаясь, предлагают. И его ответ произвел на меня самое тяжелое впечатление: видите ли, сказал он, во-первых, что касается предательства нас, то мы не боимся, потому что в конце концов он должен будет натолкнуться на нашего внутреннего сотрудника (провокатора), во-вторых, мы еще не видели подобного примера со стороны принявших; это ведь для них не безопасно и на это не решаются”9.
Далее в своей “исповеди” Рипс многословно описывал, как он попросил времени подумать и, главное, – свои размышления в тюремной камере, почему он должен принять, естественно, в “революционных целях” данное предложение. Если попробовать выбрать самую краткую форму из всех, имеющихся в его “исповеди”, то Рипс так в ней объяснял мотивы своего согласия на сотрудничество : “а что если воспользоваться этим предложением, войти в ним в доверие и этим путем, во-первых, постараться узнать всех провокаторов, а затем отомстить, но так, чтобы они помнили это на всю свою гнусную жизнь, чтобы знали, что предложения эти могут и им обойтись слишком дорого”10.
Более подробно объясняя мотивы своего решения принять предложение охранки, Рипс патетически восклицал: ”Повторяю, я не мог оставаться зрителем происходящего и считал своим долгом принять самое деятельное участие в предстоящей трудной работе - чистке провокаторов и с этой стороны я считал шаг этот самым полезным, который должен был дать возможность и разоблачения и проведения нашей тактики впоследствии. Второй вопрос явился чисто принципиальный, так сказать, теоретический. совместим ли с революционной этикой подобный метод борьбы, и я его решил утвердительно, ибо считаю с такого рода исключительной провокацией - массовой, специальной временной, а следовательно, должны быть приняты и исключительные меры, на что и могут и должны решиться люди сами по себе без всяких предложений со стороны революционных учреждений. Естественно, что немедленно же тесные революционные круги должны быть поставлены в известность и с помощью их и должны проводиться в исполнение разработанные сообща планы. Практическая же сторона дела мне в то время казалась осуществимой. Третий и один из самых больших вопросов - это отказаться от широкой революционной деятельности, ибо безусловно нельзя было бы вместить общение с элементом охранки, с одной стороны, и широкими революционными кругами, с другой” (Там же).
Далее Рипс долго думал, справится ли он этой ролью и выдержит ли, но пришел к положительному решению: ”Решив это, я заставил себя побороть в себе гадливое чувство общения с ними и, выработав план, как держать себя, я решил принять предложение”. (Там же)
После согласия Рипса фон Коттен уже 20 февраля 1909 г. его освободил и назначил свидание “в отдельном кабинете ресторана Тестова”. По словам Рипса, фон Коттен стал подробно его расспрашивать о всех деталях его революционной работы после побега в 1906 году, на что тот называл ему вымышленные имена людей, с которыми он издавал газету и т.д. и т.п.
Но разговор о самом главном, что интересовало фон Коттена - о возможности пристроить Рипса к работе в Боевой Организации – был впереди. Рипс вспоминал: ”Он спросил мое мнение относительно возможности теперь боевой деятельности, причем тут же добавил, что по его мнению партия социалистов-революционеров безусловно и во что бы то ни стало сделает попытку провести несколько террористических актов, чтобы доказать свою силу и после Азефа и его провокации.
“Как вы думаете?” - сказал он , обращаясь ко мне .
“Видите ли , говорю я , трудно мне сказать, что-нибудь определенное сейчас, так как я давно уж ни с кем не встречался и подробно ничего не знаю, но если бы, ко мне обратились за советом, как быть в настоящее время с боевой деятельностью, то я бы ответил что пока не уберут всех тех провокаторов, которых ввел Азеф... Обращаюсь к нему, смотрю в упор ему в глаза и спрашиваю: “а скажите откровенно, ведь Азеф немало ваших людей ввел в партию?”. Он густо, густо покраснел, заерзал на стуле, но тут же ответил: “ну нет, этого, мол, не практикуется, чтобы вводить через одного провокатора других”.
Фон Коттен предложил Рипсу, опираясь на старый авторитет, вступить в ПСР и подобраться к руководящим эсеровским кругам и затем попытаться вступить в Боевую Организацию ПСР. Для реализации этого плана он предложил ехать Рипсу в Париж, положив ему жалованья “на первых порах 100 руб. и все нужные расходы на казенный счет”.На следующем свидании в ресторане Тестова фон Коттен познакомил Рипса с полковником Климовичем, говорившим о том, что в последнее время стало скучно и не хватает таких событий, как экспроприация в Фонарном переулке.
Приехав за границу, Рипс покаялся своим товарищам, которые предложили изложить всю историю на бумаге. Но, насколько известно, ни следственных действий ни суда над ним максималисты производить не стали, а приняли предложение Рипса искупить свою вину убийством своего полицейского начальства, с которым он встретился на конспиративной квартире.
Никаких сведений о разговорах максималистов с Рипсом нет и потому нам только остается гадать, поверили ли они пафосным, а порой и откровенно мелодраматическим писаниям Рипса. Ответа мы не знаем, но вероятнее всего – вряд ли. Но в любом случае они решили использовать его желание убить одного из своих полицейских начальников. Любопытно, что после первого несостоявшегося покушения на некоего Кожухова, Рипс изложил, почему он не стал стрелять в него в ресторане: “Пуля могла бы пройти насквозь или же сделать рикошет и поранить или, еще хуже, убить постороннее лицо. Потом, кто-нибудь, случайно заметивший, а может имелись и агенты, охранявшие его, мог нанести удар по руке и пуля пошла бы вместо него в кого-нибудь другого. Последнее я не мог допустить. Если кто-нибудь скажет, что “когда лес рубят, щепки летят”, то я напомню, что лес-то был русский, а щепками могли оказаться французы. По отношению же к Франции, дающей свободный приют русским, мы должны быть особенно осторожны”.
В высшей степени для нас интересные размышления о том возможном резонансе на покушение и о своих перспективах (и то и другое он оценил абсолютно верно): “Если я и выбрал французскую территорию для своей мести, то только потому, что у нас в России нет гласного суда;” я же хотел бы чтобы надо мной был суд гласный, где свободно высказывается все. А у нас даже печати не дали бы сказать и двух слов об этом, тогда как во Франции суд свободный и независимый. Уходить же после убийства я не намерен был. ...Многие, очень даже многие ответят на это: “просто струсил”. ...Для сведения всех я скажу, что я себе отдавал полный отчет во всем. Я знал, что мой поступок вышел бы из ряда обыкновенной личной мести и мог бы иметь известное общественное влияние. Я знал, что это убийство было нужно для меня, как с.-р. максималиста, а следовательно и для максималистов вообще и для некоторых моих друзей, которых я искренне уважаю. В частности я знал, что не только революционные круги, но все общественное мнение в России и во Франции было бы на моей стороне. В последнем я был настолько уверен, что даже допускал оправдания на суде и во всяком случае не ждал даже относительно сурового приговора французского суда. Я знал, что суд надо мной был бы некоторым ударом охранке, с другой стороны, меня (как это бывает) возвеличили бы героем и может быть даже окружили ореолом славы. ...Как ясно было для меня и другое, что если я его не убью, то все вчерашние друзья назавтра, может быть, отвернутся от меня, а все те, которые и ранее относились ко мне не хорошо (а ведь люди всегда остаются людьми), обоснованно или необоснованно (не хочу в этом сейчас разбираться), будут иметь возможность (а досуга ведь много особенно в Париже) и желания сказать: “”Ага, как он себя показал”. И пойдут разные добавления и втаптывания в грязь моего имени. Я сознавал, что это будет безмолвная и бесцельная жизнь, жизнь без всякого смысла, что мне предстоит полный разрыв со всем тем, что мне близко и дорого - ибо мои убеждения слишком срослись со мной, я их воспринял не с мальчишеским увлечением, а зрелым человеком; я стал революционером и социалистом прежде всего для себя и таковым остаюсь (только без возможности творить), избегая в своей жизни причинять кому-либо неприятности. Я сознавал, что в данном случае я наношу жестокий удар некоторым близким мне людям” (Там же).
Перед уходом на последнее свое покушение Рипс написал “Добавление”, которое заканчивались следующими словами: “Оглашая все вышеперечисленное потому, что не счел возможным для себя умолчать и уйти молча еще и потому, что должно послужить примером для других . Не ищу себе оправдания у кого-либо, ибо прежде всего оправдание должно быть собственное. Но те люди, которые захотят осуждать меня, или еще хуже, грязнить мое имя, я все-таки верю, не посмеют усомниться в моей честности и политической благонадежности (сознаюсь, что последнее было бы больно). У более же близких мне людей и товарищей, людей дорогих мне, и которых я глубоко уважаю, я не прошу простить причиненную мне боль, но я прошу понять меня . Люди же, пережившие убийства, те, я верю, и так поймут меня. Итак, конец моему писанию и конец многому дорогому. 20 февраля и 4 мая одного года. Мало прожито, но много пережито.”
Встречались Рипс и фон Коттен наедине, и насколько можно понять из обстоятельств покушения, Рипс испытывал сильные колебания и нерешительность. Хотя Рипс и стрелял в фон Коттена в упор и несколько раз, последнему повезло и он отделался не опасными для жизни ранениями. Рипс попытался скрыться, но был арестован и предан суду.
Дело получило очень широкую огласку, русские и европейские социалисты использовали это дело в своих интересах, подливая масло на неостывшие угли азефского скандала, от которого пострадал и престиж русской политической полиции. Естественно, принуждение завербованного агента к вступлению в БО и его попытка убить “своего” полицейского были более чем скандальны для ДП в свете азефского скандала. Европейские газеты широко освещали ход процесса, а ДП аккуратно следил за его ходом и накапливал газетные вырезки.
Хотя Рипса и оправдали, тем не менее престиж израненного фон Коттена только вырос в глазах его начальства как пострадавшего на боевом посту.
Таким образом, можно констатировать, что хотя мотивы Рипса, изложенные им в его показаниях максималистам, и вызывают у исследователя сомнения в его искренности, тем не менее его товарищи посчитали возможным (вместо безоговорочного объявления его провокатором и исключения из партии) дать возможность хотя бы частично реабилитировать себя. И судя по всему, именно это и произошло. Реабилитация не была полной и не могла таковой быть, насколько известно, Рипс больше не вошел в товарищескую среду. Но, с другой стороны, хоть он и испортил себе репутацию и был вынужден выйти из революционной среды, но все же ушел не с клеймом провокатора.
Отступление от писаных норм и двойственность в отношении к кающемуся провокатору и желание использовать его в двойной игре (или убийстве) – вот что показало дело Рипса, как впрочем, и дело А.Петрова и других.
«Товарищи-провокаторы», объяснявшие свое вступление в сношения с охранкой «контрразведывательными целями», встречались не только у эсеров, но и у социал-демократов. Примером этого служит расследование в мае-декабре 1910 г. дела с.-д. Б.Ф.Вишневского (Бориса Николаевича), заподозренного группой политических заключенных Красноярской пересыльной тюрьмы в том, что он «вступил в сношения с начальником красноярского жандармского управления подполковником Комиссаровым»11, произведенное его товарищами. В этом деле мы находим две диаметрально противоположные точки зрения на такие вопросы, как допустимо ли сотрудничество революционера с жандармами и охранкой, даже если оно осуществляется с контрразведывательными целями? Может ли партия принять деньги, столь необходимые ей для продолжения борьбы, если эти деньги получены за сотрудничество с охранным отделением?
Сам Вишневский считал свое сотрудничество с охранкой наиболее радикальным средство в борьбе с секретным сотрудничеством, ибо, получая от своего полицейского начальства директивы, он смог бы узнавать других провокаторов в тех своих товарищах, которые проводили в жизнь аналогичные директивы13. На вопрос о допустимости получения денег от охранки, Вишневский ответил, что «на это у него своя точка зрения» и что деньги на партийные нужды можно внести анонимно14 Стоит отметить, что Вишневскому все же удалось своими доводами поколебать позиции части присутствовавших на собрании, на котором оглашался весь материал, так что даже один из обвинителей (Локуциевский) снял свою подпись, т.к. счел весь материал недостаточным, «чтобы придти к какому-либо решению». В то же время другой ссыльно-поселенец, Г.З.Душинин (Трутнев), напротив, счел, что «данный материал достаточен для того, чтобы считать Вишневского находящимся на службе у охранного отделения и назвать его провокатором»15.
Похоже и «дело Володи» (Давид Вассер, Рахмет Фридман, Иосиф Ан), который занимался транспортом социал-демократической литературы, преимущественно меньшевистского направления и бывал в России под видом коммивояжера. Будучи арестован 6 мая 1909 г. в Киеве на вокзале, Володя был препровожден в охранку, где получил предложение о сотрудничестве, которое в конце концов принял, рассчитывая использовать сложившуюся ситуацию в интересах партии. Приехав за границу, он сразу же рассказал обо всем товарищам, а затем редакции «Голоса социал-демократа». В результате в мае 1909 г. в Париже была создана комиссия, снявшая с него подробные показания, в которых помимо описания фактической стороны дела, он объяснял, почему, зная о недопустимости сношений с охранным отделением, все же принял подобное предложение: «Я <…> думал сохранить себя и быть полезным в будущем для организации, зная, как нужны теперь люди, кроме того я думал предать все гласности и таким образом дискредитировать охранку. Никаких бумаг кроме жандармского протокола на вокзале и расписки в получении отобранных вещей в охранном отделении я не подписывал»16. Несмотря на настойчивые предложения взять деньги, Володя их принять также отказался, мотивируя это тем, что пока еще ничего не сделал. В своем последнем слове на суде Володя объяснял свое поведение не трусостью, полагая, что своей работой доказал, что не трус, а тем, что привык обманывать полицию и не видел в этом ничего плохого: «Я знал, что давать показания охране нехорошо, но обманывать охрану я считал возможным — и никогда не слыхал о подобных делах[...] Если бы я последовал предложению начальника и приехал бы опять в Киев, тогда ясно было бы, что я вошел в сношения”17.
Ознакомившись с показаниями Володи, комиссия признала необходимым дальнейшее расследование и констатировала, что «уже один факт принятия предложения, сделанного Охранным отделением, стать его сотрудником, является в высшей степени предосудительным и не оправдывается никакими соображениями» и посчитала «необходимым устранение т. Володи от всех партийных функций впредь до окончания следствия и партийного суда над ним»18. Наконец, 17 июня 1911 г. собравшийся в Цюрихе партийный суд вынес следующее (довольно типичное для подобных случаев) решение: «1. Разбор дела не обнаружил никаких положительных данных, позволяющих сколько-нибудь усомниться в революционной честности т. Володи; 2. но так как уже один факт принятия т. Володей предложения, сделанного Охранным отделением, стать его сотрудником, не только не может оправдываться никакими партийными соображениями и несовместим с честью революционной социал-демократии, но и способен в случае его игнорирования внести в партийные ряды крайнюю деморализацию, суд, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, постановляет: не устраняя т. Володю из партийной организации, лишить его права исполнять партийные функции на 4 года с зачетом времени, в течение которого т. Володя по решению следственной комиссии от 30 мая 1909 г. был устранен от всех партийных функций»19.
Известно еще одно подобное дело, произошедшее двумя годами позже. В ноябре 1912 г. в редакцию «Голоса социал-демократа» обратился с.-д. Ю.Данаев, который в своем письменном обширном заявлении подробно излагал, почему и при каких обстоятельствах он принял предложение симферопольского охранного отделения о сотрудничестве. Несмотря на то, что, будучи арестован, он по соглашению с товарищами отрицал свою принадлежность к социал-демократической партии, жандармский полковник « в длинной речи» предложил ему стать «заграничным сотрудником» после выезда за границу. Обязанности его как сотрудника в Париже должны были заключаться в том, чтобы, вступив в какую-либо революционную группу, постараться занять в ней известное положение и сообщать полковнику о всех интересных событиях в партии, о лицах и посылать ему революционную литературу. На тот случай, если Данаеву не удастся войти в какую-либо организацию, полковник обещал свести его с «внешним» агентом, который, в свою очередь сведет его с агентом «внутренним», способным предоставить ему рекомендацию, необходимую для вступления в одну из групп содействия.
Свою редакцию на это предложение Ю.Данаев описывал так: «я решил, что, приняв его предложение, я смогу открыть за границей двух агентов, что считал чрезвычайно важным, особенно же мне казалось желательным разоблачить «внутреннего» агента, чье существование должно приносить громадный вред партийной работе. <…> Далее я полагал тогда, что такая насущная для успеха партийной работы цель, как открытие провокатора в верхах партии стоит того, чтоб из-за нее рискнуть вступить в сношения с охраной»20. Дав свое согласие на будущее сотрудничество, Ю.Данаев получил от полковника псевдоним и несколько раз встречался с ним до своего выезда за границу, причем на последнем из этих свиданий полковник передал ему шифр и адрес для переписки. По его словам, «уже вскоре после первого свидания с П.» он увидел, что взялся за предприятие, довести которое до конца ему будет очень трудно «по моральным и практическим причинам», «даже если бы компетентное партийное учреждение санкционировало» его начинание. В то же время, переживая необходимость «соприкасаться с миром охраны», Данаев не знал, как ликвидировать начатое дело. От решительного отказа его удерживало то соображение, что полковник просто арестует его, распространив в то же время сведения о его сотрудничестве. Поэтому он решил дождаться отъезда за границу, чтобы там сразу же признаться в своем проступке, что и сделал в первый же день пребывания за границей. Отзывы знавших Ю.Данаева членов партии, собранные комиссией, показали, что свое согласие на сотрудничество он, по их мнению, дал из убеждения в наличии в верхах партии провокации и необходимости ее раскрытия.
В результате разбора дела было принято обширное заявление, в котором подробно излагалась фактическая сторона вопроса, завершавшееся следующей постановляющей частью: «Редакция «голоса социал-демократа», обсудив заявление т. Д., постановила передать это дело особой комиссии <…> Принимая по внимание, что согласие, данное т. Д-м жандармскому полковнику взять на себя обязанности политического агента охраны за границей является недопустимым для члена партии, какими бы он мотивами не руководствовался при этом; но ввиду того, что данное согласие не сопровождалось со стороны т. Д-ва никакими показаниями, могущими скомпрометировать партию, или отдельных членов ее; что сам т. Д-в немедленно по приезде за границу обратился в редакцию «Голоса социал-демократа» с заявлением о сделанном ему охраной предложении – комиссия нашла возможным ограничиться по отношению к т. Д-ву воспрещением ему пребывания в партийных организациях в течение двух лет, считая со времени заявления по этому делу, сделанному т. Д. в редакцию «Голоса социал-демократа». Постановление это комиссия решила не публиковать, а довести лишь до сведения ЦБЗГ и ОК21.
Как мы видим в обоих последних случаях, социал-демократы воздержались от исключения «товарищей-провокаторов» из партии, но применили несколько отличные меры взыскания.
Более сложным для них оказалось принять решение по делу Л.Г.Бельского (Леонид, Леонид Рыжий, Леонид Московский, Фишер, Бранд, Боркевич), тянувшемуся с июля 1908 г. по — март 1911 года. По словам Леонида, в ночь с 1 на 2 мая 1907 г. он был арестован в общежитии Технического училища во время обыска, проводившегося у студента, у которого он ночевал. «Во время допроса его в охранном отделении ротмистром Колоколовым незаметно стащил со стола записную книжку, заключавшую в себе, по-видимому, важные данные. Книжка была у него отобрана хватившимися ее жандармами ранее, чем он успел ознакомиться с ее содержанием»22. Поскольку последний факт не был известен жандармам, пришедший к нему в камеру ротмистр предложил ему свободу в обмен на обещание забыть имя и фотографию, виденную в записной книжке. После недолгих раздумий он дал согласие, но этот разговор «привел его к мысли о провокаторе», поэтому он попытался разговориться с охранником для выяснения имени этого провокатора. Однако его усилия не имели успеха, и он оборвал разговор. 16 мая он вышел на свободу, «унося с собой зарождавшуюся мысль – проникнуть в ускользнувшую […] тайну сыска»23. Бельский решил обсудить этот вопрос с товарищами, но так как никого знакомого в этот момент в Москве не было, он решил обратиться за советом к Ленину, поговорить с которым попросил Веру24, не называя его имени, т.к. намеревался позже встретиться с ним лично.
Вновь оказавшись в охранке после очередного ареста (под чужим именем), Бельский заявил начальнику Московского охранного отделения о своей беспартийности и готовности в то же время войти в любую революционную партию и заменить скомпрометированного агента. После этого Бельский имел еще несколько встреч с чиновниками их охранки и Департамента полиции, в ходе которых они предлагали ему за определенную плату доставлять сведения о положении дел в революционных партиях. Он, по его словам, от этого отказывался, всякий раз напоминая о главном условии своего сотрудничества – выдаче ему фамилии того, провокатора, чью фотографию он якобы видел в записной книжке. Охранники же ответа на этот вопрос старательно избегали. (Характерно, что в своих показаниях следственной комиссии и на последующих допросах Бельский тщательно скрывал имя этого лица и лишь под нажимом признал, что речь шла о Викторе Таратуте, бывшем секретаре Московской организации большевиков, против которого в это время, действительно, велось следствие по обвинению в провокаторстве).
Наконец, поняв, что ему не удастся достигнуть поставленной цели, Бельский решил открыться товарищам и открыть Охранному отделению свои истинные намерения. Он вызвал начальника ОО на разговор в ресторане, где приготовил для него стакан вина с опием. Однако, охранник поменял стаканы местами, а затем и вовсе толкнул злополучный стакан так, что он упал и разбился. После этого, не найдя в себе решимости открыться своим товарищам в Москве, он поехал в Париж, намереваясь рассказать обо всем Ленину, к которому после первого предложения охранника о сотрудничестве уже обращался (через посредника и не называя своего имени) за советом. 10 июня 1908 г. он приехал в Париж, где предпринял безуспешные попытки встретиться с Лениным, а вскоре узнал о распространяемых о нем сведениях и потребовал партийного суда над собой.
Показания свидетелей немногое смогли добавить к рассказу обвиняемого, так что свое заключение судебной комиссии пришлось в основном базировать на рассказе Бельского. Впрочем, ряд разногласий все же был и весьма существенных. Так, следственная комиссия констатировала, что когда Ленину было сообщено об инициативе одного из партийных товарищей, чье имя названо не было, вступить в сношения с охранкой для выяснения личности возможного провокатора, «т. Ленин, как это видно из его письменного показания, отнесся к этой мысли с категорическим осуждением. Насколько точно мнение т. Ленина было передано Леониду, комиссии установить не удалось» (Там же. Л. 172). Бельский же утверждал, что показания Веры, которая и говорила с Лениным об этом деле, диаметрально противоположны и комиссия не имеет права их игнорировать, что ему было сообщено совсем не то, о чем пишет Ленин в своих показаниях и что именно поэтому Бельский и решил впоследствии открыться именно Ленину (Там же. Л. 38).
В конце концов в мае 1910 г. в своем обширном заключении (шесть с половиной страниц машинописного текста) следственная комиссия пришла к выводу о необходимости «дополнительного следствия в России, которое, может, по мнению комиссии, дать материал для партийного суда»25. После долгих перипетий и оттяжек и после изменения формулировки обвинения (не провокация, а сношения с охранным отделением) судебная комиссия, созванная ЗБЦК РСДРП в составе двух представителей ЗБЦК, представителя ЗК Бунда, представителя Бюро заграничных групп СДПиЛ, «признавая, что не только сношения, но и попытки сношений с охранным отделением – безразлично, в каких целях – революционных или нереволюционных недопустимы для члена партии», единогласно сочла необходимым «предложить ЗБЦК РСДРП исключить Леонида Бельского из РСДРП». Этот приговор был утвержден ЗБЦК. Узнав об этом, Бельский в своем заявлении в ЗБЦК «вспомнил», что еще в декабре 1909 г. вышел из партии и что его заявление об этом должно быть в бумагах следственной комиссии26.
Как мы видели, вопрос о провокаторстве Бельского был оставлен комиссией и ЗБЦК без ответа, обвинили его лишь в попытке сношений с охранным отделением, чего, впрочем, по существовавшим партийным нормам было вполне достаточно для исключения из партии, и это в принципе было известно каждому члену партии, не говоря уж о функционере городского уровня, каким был Леонид Бельский. Не беря на себя тяжесть вынесения окончательного приговора, выскажем все же некоторые свои соображения по этому делу. Первое, что бросается в глаза в показаниях Леонида – это фантастичность той ситуации с записной книжкой, с которой, якобы, и начались его попытки выведать у охранников имя провокатора. Во-первых, такие книжки не лежали на видном месте во время допроса арестованных; во-вторых, хватившись ее, ротмистр не стал бы освобождать под честное слово арестованного, вероятно видевшего какие-либо секретные записи в ней. Кроме того, весьма странным кажется тот факт, что Леониду удалось ни разу не дать ни одного письменного показания или признания предложения о сотрудничестве, пусть и обставленного рядом условий. Письменная фиксация отношений между охранником и завербованным им, пусть и потенциальным, агентом, была обязательным условием сыскной системы, и ни один ротмистр не стал бы нарушать ее из опасения служебного взыскания. А уж история с опием в стакане вина и вовсе напоминает плохую оперетту. Наконец, сам тон показаний указывает на то, что писавший их старался произвести хорошее впечатление на своих товарищей, подать дело так, чтобы они поверили в чистоту и искренность его намерений. Анализ ряда подобных дел показывает, что чем больше патетики и красивых слов («всколыхнулась революционная гордость», «зарыдало человеческое достоинство», «терзался сознанием своей неискренности», «увидел растущую перед собой бездну» и т.п.) тем меньше вероятности, что их автор сам верит в то, что пишет.
Если мы попробуем, оценить феномен «товарищей-провокаторов» в целом, то следует, на наш взгляд, с очень большой осторожностью относиться к их рассуждениям и объяснениям о своих «контрразведывательных замыслах», которые, как правило, прятали куда как более прозаические, а то и прямо шкурные интересы.
Следующей ступенькой отступничества можно считать дачу «откровенных показаний» т.е. полную выдачу своих товарищей по организации, в ходе допроса, сотрудничество с судом и свидетельствование против своих товарищей, а также вольную или невольную выдачу своих товарищей в попытках выпутать себя или смягчить себе наказание. Дача «откровенки» практически всеми и всегда в революционной среде безусловно осуждалась как полная и сознательная (даже если человек пошел на этот шаг под давлением) выдача своих товарищей, и подобные поступки оправданию не подлежали. Так, эсер Никонов вспоминал, что когда в 1887 г. он попал в ссылку в Минусинск, там проживали Крылов, он же Воскресенский, и Гандельсман. Оба были вне колонии. Крылов был удален из колонии вследствие сообщений Макаревского, Гедеоновского и других, привлекавшихся по делу Ярославского кружка, к которому и Крылов был прикосновенен, о том, что он выдавал по их делу. Когда мы с женой приехали в Минусинск, дело это было закончено и нам прямо сказали, что Крылов в колонии ссыльных не состоит как предатель. Однако вскоре по нашем приезде он потребовал пересмотра дела и по этому делу снова началась переписка с Гедеоновским и пр., которые могли бы сообщить точные сведения о Крылове. Каким-то образом я (вероятно, как новый человек) очутился в роли не то что посредника, а передаточной инстанцией между колонией и Крыловым и написал ему одно или два деловых письма по этому делу. Я совершенно не помню, какие были получены ответы на посланные запросы о Крылове, но помню отлично, что в своих правах колониста он восстановлен не был и до окончания ссылки так и остался на положении отщепенца[…]
Гандельсман был настоящим злобным предателем в партии «Пролетариата». Дело его было решено совершенно бесспорно письмом за подписью каторжан (Рехневского, Дулембы, Кона и др.), находившихся в Карийской каторжной тюрьме. Он даже и не пытался реабилитировать себя, а просто подчинился своей участи и жил отверженцем вне колонии»27.
Впрочем, из каждого правила бывают исключения, и таковые мы находим в случаях с С.Гольдбергом (варшавским студентом, оказавшимся в ссылке в Восточной Сибири) и В.Ульяновским (в 1906 г. проходившим по одному из дел польской партии «Пролетариат»). В обоих случаях, имевших место в разное время (первый – в 80-90-е годы XIX в., второй – в 1911 г.) товарищи хлопотали за своих сопроцессников, оправдывая дачу ими показаний, что действовали они «не злостно, а по глупости» (Ульяновский) и «под влиянием аффекта», не желая выгородить себя, а напротив, себя впутав больше других (Гольдберг)
Если определение таких действий революционера, как дача «откровенных показаний» и тем более «секретное сотрудничество» с полицией, затруднений не вызывали и трактовались, как правило, однозначно – как предательство (действительно, прямое предательство своих товарищей), то, скажем, прошение революционера о смягчении своей участи не влекло за собой непосредственного, прямого ущерба свободе и жизням его товарищей и создавало почву для конструирования (прежде всего самими «прошенистами») различных оправдательных схем своего поступка.
И тем не менее, уже к 90-м годам ХIХ века революционеры, так сказать, опытным путем нащупали те «границы дозволенного», переступив которые их товарищ переставал быть таковым в их глазах. И если в идейной области этот водораздел проходил по линии принятия ценностей, несовместимых с ценностями революционера и социалиста (скажем, эволюция к монархизму), то в поведенческой области таким порогом становилась подача прошения о помиловании. Правилом (но не аксиомой) становится следующее – революционер, подавший прошение о помиловании, из каких бы соображений он при этом не исходил, в глазах своих товарищей превращался в отступника, а то и «полуренегата». Ни о какой возможности дальнейшей революционной деятельности и сохранения товарищеских отношений даже речи не велось. Собственно говоря, власти, разобравшись в этих тонкостях, также крайне серьезно относились к подобным прошениям, отдавая себе отчет, что обманом или тактической хитростью они не могут быть, ибо обратной дороги к своим товарищам у «прошениста» («подаванца») нет. Говоря проще, подавший прошение не на словах, а на деле немедленно, как только это становилось известным его товарищам, абсолютно неотвратимо и необратимо переставал быть революционером. Естественно, власти рассматривали каждый такой случай и как свою победу и над этим конкретным человеком, и как сильнейший удар по его товарищам, в чью среду вносились сомнения, разочарование в товарище и, конечно, искус, пойдя той же дорогой, существенно облегчить свою долю. Власти усиливали этот искус тем, что платили за отказ быть революционером, как правило, вполне «хорошую» цену: приговоренный к смерти получал жизнь, отбывающий каторгу отправлялся на поселение.
Весьма красочно описывает попытку подобного «соблазнения» его эсер Чермак (после освобождения из ДПЗ Чермаку в жандармском управлении было объявлено, что до решения по делу он должен жить вне Петербурга и Московской губ. с дозволением по делам неоконченной работы для земской управы приезжать в СПБ. при условии явки в жандармское управление): «В один из приездов меня пригласили к начальнику жандармского управления генералу Оноприенко. Пригласив меня сесть, генерал завел речь о том, что я еще молод (мне было 33 года), на хорошей работе (до ареста я заведовал статистическим бюро Петербургской губернской земской управы) и что мне не следовало бы портить своей карьеры предстоящей мне ссылкой, которой я мог бы избежать, подав прошение на высочайшее имя о помиловании. Вероятно, мое лицо не выражало особого восторга перед возможностью избежать ссылки, так как генерал начал объяснять мне, что подача прошения в сущности одна формальность, конечно, нужно написать: припадая к священным стопам и т.д., но ведь этого никто не читает. «А иначе попадете в ссылку и карьера ваша кончена». К моему удовольствию, уговаривания продолжались недолго, генерал встал и со словами «Ну, это ваше дело», протянул мне руку. Я ее не оттолкнул»28.
Надо думать, что весьма жесткое отношение революционеров к подаче прошения и было вполне естественной защитной реакцией, «сильным» способом борьбы с «сильным» искусом. Наверное, это было вызвано необходимостью уберечься от размывания своих принципов, размывания самооправданием, жалостью к себе, ссылками на особые условия, на желание обрести свободу для продолжения борьбы и т.п. Но подобное отношение возникло не вдруг, не одномоментно и было различным в разных кругах революционеров даже в одно и тоже время – в конце 80 годов ХIХ века (разным оно было и позже, как это показал скандал вокруг К.Р.Кочаровского).
Представляется, что народовольцы, находившиеся на каторге, держались двумя руками за принцип абсолютной недопустимости подачи прошения о помилования потому, что, очевидно, инстинктивно понимали, что это единственный способ охранения себя от вступления на путь маленьких компромиссов и уступок, неизбежно ведущий к отказу от своих идей и героического прошлого. Эта позиция не была кабинетной выдумкой, а была выработана собственным каторжным опытом (в прямом смысле этого слова), опытом на собственной шкуре и, безусловно, имела под собой серьезное основание. Действительно, некоторые революционеры, страдая от тягот каторжных условий, были готовы встать на путь “прошений”, и порой удерживал их от этого только страх осуждения со стороны своих товарищей и друзей. Фактически этот страх потерять уважение своих товарищей становился (для части революционеров) одной из подпорок, уберегающих их от падения.
Ряд интересных историй и фактов, характеризующих и сам этот феномен и отношение к нему, привел в своих мемуарах о Карийской каторге 80-х годов народник, а позже меньшевик Лев Дейч: «По делу о попытке освобождения одного из товарищей (в Харькове в 1878 г.) на Каре сидел Василий Степанович Ефремов. <…> Он, наверное, был бы казнен, но товарищи уговорили его подать прошение о помиловании; после чего смертная казнь была заменена ему бессрочной каторгой, и его отправили на Кару. <…> Тяжелый приговор, в особенности совершенный им акт унижения – подача прошения о помиловании, действовали на него крайне угнетающим образом: он был чрезвычайно мрачен и не мог простить себе этого поступка. Но, <…> по манифесту Александра III в 1883 г. бессрочная каторга заменена была ему 12-летней. Это обстоятельство несколько примирило его со своей участью: Ефремов стал чувствовать себя значительно бодрее и начал усиленно заниматься»29.
Этот пример позволяет нам указать на противоречивость и «неустоявшесть» отношения к подаче прошения в среде товарищей. С одной стороны, товарищи посоветовали Ефремову подать прошение, чтобы спасти себе жизнь (и на каторге он был принят в товарищескую среду), а с другой – уже в самой этой среде существовало восприятие этого поступка, как позорного, что заставляло Ефремова жалеть о нем.
По словам Л.Дейча, «каждый новый случай подачи прошения о помиловании производил на большинство самое тяжелое впечатление, хотя для нас не все они были неожиданны. Зная о произошедшем в убеждениях некоторых переломе, мы допускали возможность подачи прошения тем или иным «патриотом» и «монархистом» и иногда даже выражали удивление, почему они так долго не делают этого. Такая нерешительность со стороны этих лиц отчасти объяснялась тем, что они конфузились, стеснялись перед остальными заключенными. <…> Уход из тюрьмы вследствие поданного прошения на нашем диалекте назывался переселением «в колонию». Наименование «колонист», произносившееся с брезгливостью, стало вскоре довольно популярным, и его считали позорным не только все политические ссыльные в Сибири, но также и наиболее порядочные местные обыватели.
С уходившими «в колонию» мы, заключенные в тюрьме и наши товарищи-вольнокомандцы, навсегда прерывали всякие сношения – об этом после продолжительных дебатов у нас состоялось особенное постановление. <…> Верх одержали крайние, настоявшие, как я уже сказал, на полном разрыве всяких сношений со всеми «колонистами»: даже раскланиваться с кем-нибудь из них считалось уже предосудительным<…>. Такой исключительный прием относительно них в общем был необходим затем, чтобы всякого рода начальство и местное население понимали различие между «раскаявшимися» и нераскаявшимися политическими. Некоторые из нас считали совершенно невозможным сколько-нибудь снисходительно относиться к «колонистам», так как последние одним росчерком пера навсегда отрекались от всего своего прошлого, одной бумажкой уничтожали все то, что еще недавно и им было дорого, за что и они перенесли столько лишений и страданий. <…> некоторые, более экспансивные из заключенных, питали к «колонистам» не только презрение, но и личную злобу (выделено нами – Авт.). Мне же казалось, что между ними следовало отличить более и менее виновных. <…> Я поэтому считал несправедливым резко осуждать всех без различия «колонистов»»30.
Разногласия в среде революционеров по отношению к «прошенистам», о которых писал Л.Дейч, были не только на Карийской каторге, но и на воле. После разгрома «Народной Воли» и ухода с арены последних ее деятелей, отправившихся кто на эшафот, кто на каторгу, кто в эмиграцию, их место заняла «молодая поросль» революционеров, порой колебавшаяся между традициями и принципами, оставленными их именитыми предшественниками, и тем, что они рождали сами в отравленной атмосфере предательств, ухода в личную жизнь, многочисленных прошений о помиловании. Ссылку на подобные колебания мы найдем в писаниях видного деятеля этого периода К.Р.Кочаровского, подавшего прошение (дело которого мы проанализируем ниже). Он прямо указывал, что сначала большинство членов его кружка резко отрицательно относились к «подаванцам» и даже хотело внести этот пункт в свою программу, но затем кардинально смягчило его: «в нашем кружке вопрос о подаче прошения был признан делом свободной совести каждого, и я и другие вперед считали и говорили, что при известных обстоятельствах мы подали бы прошения. При каких обстоятельствах? А именно при тех, при которых это сделали и до нас многие самые лучшие люди, не потерявшие от того ничьего уважения и даже вряд ли сильно повредившие этим делу революции: при тех обстоятельства, когда максимум мести врага грозит за минимум достигнутого результата и когда при этом данные лица не являются центральными, видными лицами или не принадлежать к длительной, имеющей глубокую традицию партии»31. Попав в тюрьму, несколько человек из их кружка, включая самого Кочаровского, подали прошения.
К началу ХХ века в революционной среде трактовка недопустимости «подачи прошения о помиловании» и невозможность после него революционной деятельности и превалировала над позицией менее эмоциональной и более прагматичной – что нужно учитывать обстоятельства, мотивы, нанесенный вред и потенциальную пользу данного революционера. Конечно же она не особенно артикулировалась, но она, безусловно, была и ее придерживались (как показало дело Кочаровского) и несколько весьма видных эсеров, давших возможность К.Р.Кочаровскому оказывать услуги ПСР (фактически заниматься партийной работой), что собственно и было использовано социал-демократами в 1903 г. (в момент острейшей полемики между с.-д. и с.-р.) для раздувания громкого скандала. Разоблачительный пафос только отчасти был направлен на самого К.Р.Кочаровского, а основной удар предназначался т.н. эсеровскому «женевскому руководящему кружку», забывшему заветы великих предшественников и опустившемуся до сотрудничества с ренегатом. Гениальность этого приема с.-д. заключалась в том, что, с одной стороны, они объявляли себя защитниками традиций народовольцев и их настоящими потомками, в отличие от «этих» «социал- реакционеров», а с другой – они вносили раскол и смущение в ряды самих эсеров. Мало того, что в этот момент у эсеров происходила борьба за власть в партии между различными группировками, и удар по главенствующей «женевской» группе не мог не понравиться остальным, главное же заключалось в том, что в народовольческо-эсеровской среде была крайне сильна абсолютно непримиримая позиция к подаче прошений.
Ярчайшим свидетельством стал громкий скандал вокруг уникального в своем роде дела Карла Романовича Кочаровского, материалы которого дают нам ценнейший материал для анализа целого ряда коллизий и нюансов, касающихся и мотивов подачи прошений, и аргументов «за» и «против», бытовавших в революционной среде, и попытки дать определение понятию – «ренегатство», и того, что само дело Кочаровского стало «прецедентным», закрепив еще сильнее доминировавшее отношение по этому вопросу.
Карл Романович Кочаровский был достаточно заметной фигурой во времена заката народовольческого движения самого конца 80-х годов ХIХ века. По оценке именно ему и его кружку принадлежала «первая крупная попытка объединения…» всех разрозненных народовольческих сил в «единую сильную революционную партию». Успехи были поразительны: возникнув в начале 1888 г., кружок уже к осени 1889 г. имел связи с 17-ю губернскими городами и провел в Казани съезд, обсудивший принципы и организационные схемы будущей партии, создание типографии, лаборатории, транспортировки из-за границы литературы и т.д. Продолжались переговоры с заграничным кружком о развертывании планомерной систематической террористической кампании, ибо это было принципиальным условием со стороны кружка Кочаровского. Однако в мае 1890 г. после повальных арестов в Париже, давших материал для арестов и обысков в России, которые охватили ряд российских городов, организация Кочаровского была разгромлена. К следствию было привлечено 63 человека.
Вот как спустя полтора десятка лет сам К.Р.Кочаровский описывал те события, озаглавив этот кусок весьма символично – «Характер времени и кружка, в которых началась моя революционная деятельность»: «Это была последняя отчаянная попытка уже не последнего даже отряда хотя и разбитой, но все-таки армии, а отдельных волонтеров-партизанов – как бы «вольных стрелков» что ли. Единственную возможную форму борьбы мы видели в том, что так и называли «партизанским террором». У нас осталась одна цель: уничтожить Александра III. И для этого мы признали годными, оправданными и дозволенными для каждого кружка и для каждого члена все средства». <…> Именно эта «атмосфера партизанской безответственности, одна сделала возможной подачу мною (и другими) прошения о помиловании, которой мы не в силах были изменить, которая сама воспитала нас и в которой значит и надо искать объяснения нашего поступка...»32.
Психология, строй мыслей и аргументация К.Р.Кочаровского нашли отражение в написанной им в 1903 г. обширной объяснительной записке, поданной им эсеровскому руководству. В разделе «Обстоятельства и мотивы подачи прошения о помиловании» К.Р.Кочаровский писал: «В сентябре 1890 г. я был привезен в Петропавловскую крепость. На первом допросе я отрицал всякую прикосновенность и на все вопросы отзывался неведением, на втором же я признал себя автором программы нашего кружка и вышеупомянутой «декларации» и также еще одной какой-то конспиративной (непонятной жандармам) записочки, где-то найденной и писанной, несомненно, моей рукой, — затем я отказался от дачи показаний. Затем я сильно нервно заболел<...> Мать и родные добились перевода меня в больницу<…> Там, по окончании предварительного следствия, я и подал прошение о помиловании, подобно нескольким другим моим товарищам, с общего ведома и соглашения по крайней мере между тремя: между Файницким, Кулаковым и мною (кроме того наверно знаю, что подали прошение Беляев и Флоровский; но с ними я тогда не сносился, а только знал, что они подали или подают). Содержание моего прошения заключалось в том, что я заявлял, что убедился в «ложности и опасности» своих революционных действий еще до ареста и тогда же прекратил их и что если бы я и не был арестован, то воздержался бы сам от нарушения легальных форм; ввиду этого, а также ввиду своего крайне болезненного состояния я просил о вменении мне в наказание тяжелого предварительного тюремного заключения и о том, чтобы в случае применения ссылки мне дозволили отбыть ее в Астраханской губернии. Приговорили меня к 5 годам ссылки в Степное генерал-губернаторство <…> Ссылку всю я отбыл. <…> Мотивы же подачи мною прошения по помиловании состояли в том, чтобы достигнуть этим путем минимум наказания и тем сохранить максимум сил, — сохранить не для себя лично, а для революции. Я не сразу решился подать прошение, но колебание состояло не в том, что мне легче было подать и что чувство революционера отвергавшее эту сдачу перед врагом боролось с личным чувством разбитого и ослабленного человека. <…> Вопрос для меня стоял так: сохранилось ли во мне достаточно духовных и физических сил для того, чтобы как только позволят обстоятельства, снова принять участие в революции? Если да, то я обязан подать прошение о помиловании, которым я могу наиболее сберечь своих сил для этой новой работы. <…>и я окончательно решился, — как и ранее думал, — подать прошение в уверенности, что не прибавлю много к погибшей уже организации народной Воли, с которой мы не были связаны, в убеждении, что своего личного имени я не имею права щадить, в надежде, наконец, что настанет время, когда я уплачу по этому векселю и тем смою и свое унижение перед врагом, который увидит, что я в действительности никогда ему не сдавался и свое отчуждение от революционеров, которые убедится в том, что я никогда не изменял революции, а наоборот именно для нее и поставил на карту свое имя»33.
В настоящее время, через 12 лет после того времени <…> я сам ясно вижу элементы ошибки в этом рассуждении, сам понимаю, что многих это рассуждение может прямо показаться чистым результатом той особой «тюремной психологии», где явно перевешивает элемент психопатический.
Конечно, обращают на себя внимание попытки Кочаровского, с одной стороны, преувеличить влияние неблагоприятных «внешних обстоятельств», с другой – всячески принизить значимость и роль своего кружка, безусловно, претендовавшего на роль «объединителя» народовольческих элементов в партию, и, наконец, с третьей – готового, судя по всему, сгустить краски, описывая «отмороженность» своего кружка.
Подача прошения о помиловании в следующем серьезно повлияла на дальнейшую жизнь К.Р.Кочаровского, хотя, в отличие от абсолютного большинства «подаванцев», он не отошел от общественно-политической жизни, и даже оказывал серьезные услуги нарождающейся эсеровской партии. Впрочем, вначале он не спешил выполнять свой «революционный долг», который он наложил на себя подобно епитимье за свое грехопадение, а его объяснения выглядят весьма неубедительно и заставляют сомневаться в его искренности в целом. И лишь встреча с Е.К.Брешко-Брешковской в конце 1901 г., по его собственным словам, подтолкнула его к «уплате по лежащему на нем бесконечно тяжелому векселю».
Скандал разгорелся, когда в 1903г. вышла из печати брошюра Надеждина «Канун революции», в которой автор сообщив о факте подачи им прошения о помиловании прямо и недвусмысленно назвал его ренегатом. Оставить без ответа такое обвинение было невозможно и К.Р.Кочаровский с помощью своих товарищей ищет различные пути выхода из скандальнейшей ситуации. Простейшим и скорейшим разрешением кризиса им представлялся разговор Кочаровского с Надеждиным с целью убедить его дезавуировать обвинение в ренегатстве. Подобный разговор состоялся и хотя с Надеждиным разговаривал не Кочаровский, а В.Л.Бурцев (проявивший собственную инициативу), что должно было по идее сильнее повлиять на автора брошюры, последний ответил отказом. После этого К.Р.Кочаровский обратился за советом и помощью к виднейшим и авторитетнейшим эсерам М.Р. Гоцу и О.С.Минору. В 16-страничном письме к М.Р.Гоцу он спрашивал, стоит ли ему обращаться для разрешения своего дела к суду, и если да, то к какому именно»34.
Идя на этот суд, Кочаровский понимал, что «риск в нем для него порядочный», т.к. «никогда нельзя предусмотреть мотивов да и настроений нескольких лиц». По его мнению, риск этот уменьшался в том случае, если адресаты письма будут готовы «твердо удостоверять» личность Кочаровского и то, что он «примкнул уже в России снова к революционной работе <…> что вопрос не стоит теперь так, принять ли или не принять меня в партийную работу: этот вопрос в России уже был решен, я уже был принят и уже работал <…> несмотря на то, что факт подачи прошения о помиловании был известен в России, и при всем строгом его осуждении не послужил препятствием для моего участия, а, наоборот, было всем ясно, что чем тяжелее был мой проступок против партии, тем больше она должна дать мне возможности его загладить. Вопрос идет теперь лишь о том, присоединяются ли заграничные представители партии к этому отношению ко мне в России или нет».
Спрашивая у Гоца, как он сам должен оценить собственный поступок, Кочаровский писал, что разумом готов признать правоту большинства, считающего, что «подача прошения о помиловании есть ошибка без всяких оправданий»[...] Однако «со стороны чувства непосредственного» не ощущает «никакого чувства вины перед партией», но полагает, что «во всяком случае во второй раз я никогда и ни при каких обстоятельствах не решился бы подать прошения о помиловании»35.
М.Р.Гоц считал, что если Кочаровский, действительно, предан организации, то «элементарное чувство должно подсказывать ему, что он должен отделять себя от целого впредь до очистки»36. Как видно из документов, Гоц не зря опасался втягивания эсеровской организации в целом в дело Кочаровского. Межпартийные эмигрантские собрания, обсуждавшие этот вопрос, демонстрировали такой накал страстей, что дело доходило почти до драки.
Эсеровское руководство попало в непростую ситуацию. С одной стороны, отказать Кочаровскому в поддержке было бы некрасиво, а с другой – они не могли и согласиться с его оценкой своих действий. В конце концов, после многочисленных собраний, принятых и отвергнутых резолюций и бурной переписки между членами руководства партии и самим Кочаровским 3 июня 1903 г. партийная комиссия в составе Л.Э.Шишко, М.Р.Гоца и В.М.Чернова постановила, что «в политическом прошлом К.Р.Кочаровского кроме факта подачи прошения о помиловании неизвестно ничего, что можно было бы охарактеризовать как «ренегатство». Слово «ренегат» прилагается к тем людям, которые отреклись от своих убеждений и перешли в противоположный лагерь. В факте подачи прошения о помиловании на имя царя имеется в наличности первый признак такого акта, как «ренегатство», а именно – хотя бы временное отречение от своих убеждений (выделено нами- Авт.) <…> Факт подачи прошения о помиловании, из каких бы мотивов он ни исходил, совершенно закрывает подавшему прошение доступ в революционные организации; что касается до личности Кочаровского, то комиссия, собрав сведения от лиц, хорошо знающих его жизнь за последние годы, заявляет, что поведение К.Р.Кочаровского после ссылки дает ему полное нравственное право выступать на поприще культурной и научно-общественной деятельности»37.
Кроме того все документы этого дела были отправлены на суд двух авторитетнейших деятелей революционного движения Н.В.Чайковского и П.А.Кропоткина, которые самым решительным образом осудили подачу Кочаровским прошения, подчеркнув, что «человек, который раз запутался в софизмах и позволил себе поступок, позорящий революционное дело, должен сам понять, что деятельность в рядах революционных партий для него закрыта, и что ему самому не следует добиваться реабилитации у современных революционеров, потому что 1) такая реабилитация неизбежно повела бы к понижению нравственного уровня достоинства их дела и 2) потому что революционная организация не имеет никакой гарантии в том, что человек, однажды запутавшийся таким образом, не запутается так же и в другой раз»38
Анализируя дело К.Р.Кочаровского в целом, следует отметить, что во-первых, оно столь скандально столкнуло «мягких» и «непримиримых», и заставило публично высказаться и сформулировать свою позицию и тех и других (в том числе и тех, на кого надеялся Кочаровский, и кто избегал открытой полемики по столь скользкой теме). Во-вторых, столкновение продемонстрировало силу «непримиримых» и закрепило их победу. В-третьих, создало прекраснейший прецедент, с таким количеством зафиксированных на бумаге мнений авторитетнейших людей, что дальнейшая публичная полемика с «непримиримыми» была уже практически немыслима.
Прошений о помиловании было особенно много после того, как в годы революции 1905–1907 гг. в социалистические партии пришли десятки тысяч новых членов, немалая часть которых оказалась неспособна к испытаниям, вскоре выпавшим на их долю.
Известная эсерка Мария Спиридонова, проведшая на каторге десять лет, говоря о том, что не позволял делать политзаключенным их тюремный «неписаный устав», на первое место поставила подачу прошения о помиловании. (Отметим, что в данном случае писаное и неписаное право совпадали, ибо весной 1907 г. ЦК ПСР принял резолюцию об исключении из партии подавших «прошения о помиловании или о смягчении участи»39). Впрочем, как это ни покажется странным (с учетом ее темперамента) сама Спиридонова не относилась к числу непримиримых: «Невозможно поднять руку с камнем на тех заключенных товарищей, которые в своем малодушии доходили до самого позорного конца — до подачи прошения о помиловании. Падение их, если не оправдываемо перед судом революционной совести и перед лицом стольких замученных за свою стойкость пленников, свое смягчающее объяснение, конечно, имеет. Надо только представить себе, что выделывало над каторжанами, начиная с 1907 и кончая 1917 годом, правительство, надо проследить год за годом ужасы и издевательства над живой душой и телом человеческим, чтоб взглянуть иначе на всех сдавшихся, опустившихся, павших, чтобы сразу потерять уверенность в своих собственных силах и перестать требовать терпения от тех, у кого, может быть, сил было меньше или страданий больше. Надо удивляться обратному: огромности выдержки, молчаливому долголетнему страданию без помощи и надежды сотен и тысяч людей, донесших до конца безропотно свой крест»40.
Отметим, что писали прошения не только «случайные» и раскаявшиеся. В годы революции появляется новая категория каторжан, до этого не встречавшаяся. Спиридонова подчеркивала, что на каторгу в годы революции 1905–1907 гг. попало немало «жертв столыпинской скорострельной юстиции», людей, не имевших никакого отношения к революционерам и попадавшим «под горячую руку» карательных экспедиций. Из того, на что пускались эти «тоже политические» для того, чтобы вернуть себе ни за что, ни про что утраченную свободу, прошение было, пожалуй, самым безобидным41.
Однако в целом подача прошения о помиловании в революционной среде стала считаться безусловно предосудительным поступком, и даже одного подозрения, что человек совершил этот поступок, бывало достаточно, чтобы испортить его репутацию. В этом плане весьма характерна история с освобождением из тюрьмы в ноябре 1911 г. Д.Ф.Сверчкова (в 1905 г. члена петербургского совета рабочих депутатов, а впоследствии соратника Л.Д.Троцкого). Когда об этом факте стало известно в эмигрантской среде, возникла переписка между Л.Д.Троцким и секретарем ЦБЗГ Г.В.Чичериным, стремившимися предотвратить возникновение слухов, порочащих революционную честь Сверчкова.
15 мая 1912 г. Чичерин просил Троцкого сообщить, на основании каких источников он утверждает, что Сверчков помилован безо всяких шагов с его стороны, т.к. близко знавшие его люди верят, что он не совершал никакого предосудительного поступка, но для широкой публики, до которой рано или поздно дойдет эта история, нужны объективные данные.
Впрочем, и сам Сверчков понимал, что его история будет выглядеть странно, и писал Троцкому еще 2 марта 1912 г.: «Я думаю, что по поводу случившейся со мной перемены, конечно, ввиду ее исключительности, могли возникнуть какие-либо нелепые слухи» (Л. 5). Прилагая это письмо Сверчкова, в котором описываются обстоятельства его жизни после освобождения из тюрьмы под надзор полиции (просил заграничный паспорт для выезда на лечение, в этом было отказано, поэтому поехал на юг, в Геленджик, где так пустынно, что и высылать дальше незачем), Троцкий находил целесообразным предложение Чичерина опубликовать письма Сверчкова: «Объективно доказать неподачу прошения нельзя. Мое утверждение опирается только на мою переписку с С.[…] Эта переписка не оставляет во мне никаких сомнений в том, что С. не совершил лично никакого недостойного шага. Но повторяю: объективно этого доказать нельзя, и способ, предложенный Вами в письме, кажется мне поэтому единственно возможным»42.
В конце концов в газете «Будущее» за подписью Троцкого была опубликована заметка «Исключительный случай», в которой подробно излагалась вся история Д.Ф.Сверчкова и подчеркивалось, что «Никаких прошений Д.Ф. сам никуда не подавал, даже не знал ничего определенного о хлопотах своих родных, так что освобождение его – с заменой всего приговора лишь 5-ю годами полицейского надзора – явилось для него полнейшей неожиданностью»43.
О том, что ко всем сообщениям о подаче прошения и поступлении на службу в охранку относились очень серьезно и старались их проверить прежде, чем давать ход делу, свидетельствует письмо И.Уварова в ЗБЦК от 25 июня 1911 г.: «Нами получено следующее сообщение из Московской каторжной тюрьмы: «Симокин, бывший московский работник социал-демократ, подал прошение, предал и из бессрочных каторжан поступил в Московскую охранку». Сообщение это, хотя и из заслуживающего доверия источника, однако, совершенно не проверено и за точность его мы не можем ручаться»44.
О том насколько трепетно относились революционеры ко всем действиям, которые даже в первом приближении могли быть сочтены уступкой властям и изменой своим взглядам в форме подачи прошения о помиловании, свидетельствует история, рассказанная эсером С.А.Никоновым, врачом по специальности, в 1904 году отбывавшим ссылку в Архангельске. «Вскоре по приезде моем в Архангельск я получил телеграфное предложение от одного хирурга, приват-доцента университета, которого я лично не знал и фамилию которого теперь забыл, занять место заведующего одним из земских отрядов на Дальнем востоке»45. Это предложение сильно заинтересовало Никонова, т.к. он хотел познакомиться с военной хирургией и порядками в русской армии. «Но в качестве ссыльного я был связан, тем более что мы только что резко протестовали против предложения министра внутренних дел загладить свои грехи службой в действующей армии. Но и помимо протеста я конечно никогда не обратился бы к министру ни с какою личною просьбой, выходящей из рамок положения о гласном надзоре»46. Поэтому Никонов ответил на это предложение тем, что сам он готов поехать на дальний восток, но никакого прошения писать министру не будет. Этот хирург написал ему, что Никонову достаточно обратиться к главноуправляющему Красного креста, а тот уже сам будет давить на Плеве. Так и было сделано, и Плеве ответил решительным отказом. Причем в своем письме к главноуправляющему Красным крестом Никонов писал, что его «согласие идти на войну вызвано только желанием ознакомиться на опыте с военной хирургией и принести пользу раненым солдатам, и что ни в коем случае оно не должно рассматриваться как выражение раскаяния или сожаления о содеянном»47.
«Приняв решение подать упомянутое заявление главноуправляющему Красным крестом, я сейчас же сообщил об этом нашей архангельской группе с.-р. на ближайшем же общем собрании. Так как товарищи относились отрицательно к службе в действующей армии, то я и счел долгом осведомить их о моем заявлении и о мотивах, которыми я руководствовался. Товарищи не нашли в моем заявлении ничего, противоречащего партийной этике или нашему положению поднадзорных, и предоставили мне в этом отношении свободу действий, тем более, что и сослан-то я был не под эсеровским ярлыком»48.
Полгода спустя, уже через два месяца после убийства Плеве, Никонову пришло разрешение на поездку на Дальний восток. Он тотчас же написал новому министру внутренних дел длинное заявление, в котором писал: «прежде чем воспользоваться данным мне разрешением, я считаю долгом заявить, что если я был выслан за мой «образ мыслей» (а эта гипотеза кажется мне наиболее вероятной), то этот образ мыслей остался тем же, чем был до ссылки. После 40 лет мнения и убеждения людей не меняются ни ссылками, ни вообще какими бы то ни было репрессиями[…]»49. 14 или 15 октября Никонову было объявлено распоряжение министра внутренних дел об отмене постановления особого совещания и о снятии с него гласного надзора50..
После Октября 1917 г. у властей появилась потребность придумать нечто адекватное «прошению о помиловании», но отнюдь не только для сидящих в тюрьмах, но и для находящихся на свободе эсеров, меньшевиков и анархистов – чтобы дать им возможность проявить свою лояльность к власти. Вскоре появляются две такие формы проявления лояльности к власти, после чего с одной стороны этот человек, переставал рассматриваться и властью, и своими товарищами как член этой партии, с другой – получал всякого рода послабления и даже возможности для жизни обывателя. Одной из таких форм стало помещение в советских газетах объявления о своих идейных и тактических разногласиях с эсеровской (или меньшевистской) партией и выходе из нее. Кстати говоря, для выхода из оппозиционной партии становилось достаточно и такого вот публичного объявления, даже если и не было формального заявления в партийную организацию. Таких объявлений было много в 1918–1922 гг., но практиковалась эта форма и позже.
Эсерка Е.Олицкая вспоминала о том, какие чувства в 1925 г. пережил эсер А.Федодеев, находившийся на Соловках, когда узнал о подобном поступке своей жены: «Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том, что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку. Шура в ряде писем старался удержать Цилю от этого шага. Как раз перед нашей голодовкой он послал ей решительное письмо. Он писал ей, что отречение от партии означает отречение и от него. В первом письме, полученном после голодовки, сообщалось о том, что Циля опубликовала в газете письмо с отказом от партии с.-р. Шура не ответил на это письмо. Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрекшиеся от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами. Я очень хорошо понимала Шуру. Когда-то и я пережила такую же утрату. Но я потеряла друга, а Шура пережил утрату жены и, вероятно, сына.
В те годы было достаточно печатного отречения от своей прошлой деятельности, от своих прошлых убеждений, и человек возвращался из тюрем, из ссылок к жизни.
Мы понимали, что человек отказывается от своих убеждений во имя житейский благ, но путь погони за благами был скользким путем. На каком месте наклонной плоскости может человек поставить точку… Сможет ли устоять перед новым нажимом, раз пойдя на сделку с совестью? Сможет ли кто-нибудь кроме нас, понять такое отношение к этим людям? В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, – «продаванец»»51.
Прекрасно видно, что термин, используемый социалистами середины 20-х годов –«продаванец» – родилось от более раннего, еще дореволюционного термина – «подаванец», т.е. подавший прошение о помиловании, что показывает объединение в восприятии революционеров столь разных форм, как прошение о помиловании и объявление или письмо в газету по главному, что в них содержалось – отречение от своих идеалов и выражение лояльности власти. Более того, мы можем констатировать, что отношение прежних товарищей становится максимально жестким (бескомпромиссное «продаванец» куда более ясно выражает отношение к данному человеку, чем иронично-неопределенное «подаванец»), ибо оно было адекватным ответом на беспрецедентное давление властей, и проявлением необходимости защищать революционную среду от размывания. Подавать подобные объявления в газеты многих из находившихся в ссылках эсеров и меньшевиков на протяжении 20-х годов подталкивало ГПУ, стимулируя это блокированием устройства на сколько-нибудь приличную работу.
Нельзя не отметить и кардинального отличия в положении и мироощущении политзаключенного-социалиста советского времени от его товарища дореволюционной поры, которое ощущалось и осмысливалось уже самими «сидельцами». Привезенная с Соловков Е.Олицкая размышляла в Верхне-Уральском политизоляторе: «В царские времена было легче. Тогда мир делился на два лагеря – угнетателей и угнетенных. Тогда все лучшие люди, по крайней мере, сочувствовали жертвам неравной борьбы. А теперь? Если у зэка рождалось малейшее сомнение в правильности тактических приемов его партии, если рождалось малейшее сомнение в ошибочности тактике его политических противников, ему приходилось плохо. Ведь он сидел в тюрьме, когда вокруг шла борьба за его идеалы»52.
Другой и, надо сказать, более мягкой, более завуалированной формой демонстрации властям своей лояльности и частичного отречения от своих прежних взглядов стала так называемая «подписка». Впервые она была пущена в оборот в феврале 1919 г., когда вышел в свет декрет ВЦИК от 26 февраля 1919 г., принятый в ответ на решение эсеровской конференции о прекращении вооруженной борьбы с большевиками и продолжении ее против белогвардейских режимов. Декрет предоставлял право эсерам принимать участие в советской работе и предписывал советским органам освобождать их из тюрем. Но специфика этой амнистии была в том, что она не являлась общей. Амнистировались в индивидуальном порядке только те эсеры, которые давали подписку установленного образца, гласившую: «Я, член партии пр[авых] с[оциалистов]-р[еволюционеров], стоя на платформе резолюции партийной конференции от 8 февраля 1919 г., отвергнувшей всякие попытки вооруженной борьбы с советской властью, решительно высказавшейся против иностранного вмешательства и потребовавшей очищения территорий, занятых иностранными войсками, призвавшей партийные организации к свержению реакционных правительств в областях, находящихся во власти германских и союзных империалистов, и решительно отвергнувшей союз с буржуазными партиями, прекратившей борьбу на восточном фронте и призвавшей свои войска действовать против Колчака совместно с советской властью, даю настоящую подписку в том, что признаю эту резолюцию и отказываюсь от вооруженных и других противозаконных действий против советской власти»53.
Смысл всей этой довольно абсурдной процедуры (объявлять о признании решений собственной партии) заключался в последних десяти словах, где революционер письменно брал на себя очень серьезные обязательства – «отказываюсь от вооруженных и других противозаконных действий против советской власти». Более того, маленький довесок – «и других противозаконных действий» фактически превращал любого «подписанта», из человека согласного с решениями своей партийной конференции, в человека грубо нарушавшего ее решения, ибо как раз применение всех «других противозаконных действий» против власти она санкционировала. Фактически для «подписанта» эта подписка значила капитуляцию перед властями и уход из партии.
Брали чекисты и подписки, написанные в «произвольной форме», как это видно из инцидента с эсером В.Филипповским, одним из руководителей борьбы против Деникина на Юге России. В своем письме в ЦК ПСР, написанном 17 января 1921 г. из Бутырок, Филипповский описывал мотивы, заставившие его дать «подписку ВЧК». В конце письма он признал этот шаг ошибочным и выразил готовность сделать все необходимое для искупления своей вины. Уникальность этого письма не в готовности признать свой шаг ошибкой и раскаянии – это-то как раз было вполне свойственно некоторой части всякого рода отступников, «прошенистов» и даже некоторым «товарищам-провокаторам» (вроде Д.Богрова, А.Петрова, Рипса). Уникальность в самой жизненной ситуации, когда политическая ситуация была настолько неоднозначной, что, действительно, В.Филипповский, давая свою подписку, не нарушал революционной этики, так как революционная этика в тех условиях, когда враги превращались в союзников и наоборот, допускала возможность подобной расписки.
В своем письме В.Филипповский подробно описывал политическую ситуацию в Черноморье, сложившуюся в ходе борьбы «против Деникинской армии, организованной и возглавляемой партией социалистов-революционеров. Эта борьба закончилась изгнанием добровольцев из Черноморья и созданием Советской Республики, просуществовавшей самостоятельно до окончательной ликвидации реакционных сил на юго-востоке России. <…> В революционном Черноморье, отделенном от остальной России барьером реакции, мы имели слабые, как потом оказалось, часто совершенно неверные сведения о том, чем жила и как жила Советская Россия. В Черноморье создался язык взаимного понимания между социалистическими партиями, существовал формальный единый социалистический фронт и была полная свобода социалистического мнения. Не отказываясь от лозунгов народовластия, мы считали, что в данный исторический момент в местных условиях, партия социалистов-революционеров должна провозгласить лозунг диктатуры трудового народа. Наша Советская система была построена на принципах свободно выбранных советов и на политическом равноправии крестьян и рабочих. Мы не мыслили себе в дальнейшем возможность вооруженной борьбы с большевизмом и хотели верить, что в будущем после окончательного разгрома реакции, когда сомкнутся наши ряды, мы сумеем найти общий язык с коммунистами и изливать наши разногласия путем борьбы мнений и апелляцией к народу для разрешения наших разногласий».
Однако после изгнания белогвардейцев и установления в регионе большевистской власти легальное существование эсеровской партии было недолгим. Вскоре все видные местные эсеры были арестованы и отвезены в Екатеринодар, а затем, после 4-месячного пребывания в тюрьме, в Москву. На допросе они заявили, что в общем и целом стоят на тех же позициях, которые занимали в Черноморье. От них потребовали «письменного закрепления этих позиций в форме подписки. После коллективного обсуждения этого вопроса сообща, и затем нашей группой четырех, мы решили сделать этот шаг, противоречащий революционным традициям. Делали мы это вполне сознательно, учитывая как нам тогда казалось, все его последствия, как парт., так и персональные. Подписка для нас не освещалась моментом, уводящим нас ни по форме, ни по существу от партийно-революционной работы. Самую же унизительность факта дачи подписки мы решили перешагнуть, принимая в соображение интересы революции и партии, как мы их понимаем в тот момент. <…>
Должен прибавить, что не политическая усталость или упадочные настроения, и, наконец, не боязнь тюрьмы руководили нами. Это мы доказали уже тем, что по освобождении принялись за партийную работу, несмотря на остающиеся у нас некоторые расхождения с мнением ЦК, которые мы стремились изжить в самом процессе работы. Теперь я вижу, что этот шаг все же был недостаточно тогда продуман и является безусловно ошибкой, как по его последствиям, так и по тем политическим и тактическим основаниям, которые лежали в основе его, и готов сделать все от меня зависящее для ликвидации всего инцидента в формах которые ЦК сочтет нужным мне указать. Член партии социалист[ов-]револ[юционеров] В.Филипповский»54.
Данное письмо, написанное в тюрьме, было перехвачено властями и до адресата не дошло. Вероятнее всего, что в той или иной форме В.Филипповский довел суть своего заявления до членов ЦК, тем более, что подавляющая их часть скоро сама оказалась в Бутырке, где связаться с ними было лишь «делом техники».
Очевидно, узнав, что его заявление в ЦК ПСР от 17 января 1922 г. перехвачено чекистами, В.Филипповский написал через три дня еще одно заявление (которое, впрочем, также попало в руки властей). Содержание этого письма было более кратким изложением первого заявления и завершалось оно тем же выводом: «Считаю, что тогда совершил тяжкую политическую ошибку, нарушив партийные традиции и дисциплину. 18 января мною подано заявление в Президиум ВЧК об аннулировании моей подписки»55. Мы не знаем об отношении ЦК ПСР к этому инциденту. Представляется, что Филипповский, безусловно, имел очень серьезные шансы на «реабилитацию» своей «ошибки», т.к. и дезориентация, вызванная отсутствием связи с центром и своеобразнейшей политической ситуацией в том регионе, отсутствие «шкурных» мотивов (по крайней мере, в отличие от подавляющего большинства “подписантов” и “прошенистов” вменить ему это в вину было значительно сложнее) и, наконец, – признание своего поступка “безусловной ошибкой” и готовность исправить ее, а кроме того заявление властям об аннулировании подписки.
Снова о возможности использования такой формы, как подписки, власти вспомнили в ходе подготовки процесса над социалистами-революционерами. Из всего бессчетного числа особенностей судебного процесса над социалистами – революционерами (июнь-август 1922), одна особенность является уникальной и резко выделят его из всей, как дореволюционной, так и советской судебной практики. Она заключается в том, что – и те кто судил и те кого судили, пытались доказать и себе, и друг другу и всему миру, что они-то как раз и есть истинные революционеры, а противостоящая им сторона и есть подлинные предатели. Большевики страшились опасности повторения печального опыта самодержавия, с переменным успехом боровшегося с революционным подпольем более полувека. Какую роль традиции революционной субкультуры сыграли в падении самодержавия, они знали не понаслышке56, а успехи эсеровской и меньшевистской агитации в студенческой и рабочей среде в 1921–1922 гг. пугали власти не только сами по себе. Тамбовское и особенно Кронштадтское восстание подтвердили на практике, что процесс, так сказать, «революционной самодеятельности» масс, как бы большевикам ни хотелось, вовсе еще не прекратился. Соединение идей и субкультуры революционного подполья (его продолжали эсеры, меньшевики, левые эсеры, часть анархистов и максималистов) и недовольства различных классов и страт российского общества в 1921-1922 гг. было для власти гибельнее и куда реальнее, чем возрождение «белой угрозы».
Получилось так, что старая революционная субкультура, хотя и была общей колыбелью для большевиков и оппозиционных им ныне эсерам, меньшевикам и анархистам, вместе с тем представляла очень серьезную угрозу для большевистской властью. Любая конкуренция, любое сравнение для большевиков были губительны и проигрышны — они став властью, и сев на новый стул — на стул тоталитарной власти, продолжали сидеть и на стуле революционных традиций (подменяя следование ее нормой все больше риторикой), но оба эта стулья разъезжались все дальше и дальше. Совершенно не случайно власти чуть не разогнали в этом же 1922 г. общество политкаторжан , которые фактически стали претендовать на роль хранителей революционных традиций. Лидеры большевиков отдавали себе отчет, что им надо сделать так, чтобы вся глубоко укоренившаяся и развитая несколькими поколений российской радикальной интеллигенции революционная субкультура, с ее нормами, символами, традициями – ассоциировалась только с большевиками, из оппозиционных власти революционеров ставших – «революционной властью», своего рода – правопреемниками и революционной традиции и государственной власти.
Все это определило и сверхзадачу большевиков на процессе с.-р. в 1922 г. — не доказать их виновность в борьбе против большевистской власти (эсеры этим гордились), не сгноить их в тюрьмах – это и так было уже решено и осуществлялось без всяких судов, а дискредитировать их как революционеров, доказать, что им гордиться нечем, что они не наследники славных революционных традиций, а гнусные их предатели, спутавшиеся с Антантой, кадетами, белогвардейцами, опозорившие революционные традиции. И попутно доказав, от противного, что единственные хранители этих святынь – только коммунисты. Поэтому, вовсе не случайно, что вопрос о том, кто истинный революционер и кто предатель революции, стал ключевым в ходе процесса.
Квинтэссенция этих горячих споров, на наш взгляд, содержится в следующих двух высказываниях. Обращаясь к эсерам – подсудимым первой группы (т.н. «непримиримым») Н.И.Бухарин говорил: «Вопрос о подсудимых второй группы («раскаявшихся» по терминологии советской власти, или «ренегатов», с точки зрения их бывших товарищей по партии – Авт.)есть вопрос о предательстве предателей. <…> Если эта определенная группа лиц, вышедшая из вашей партии, ваше предательство раскрыла, распубликовала, вас - к позорному столбу пригвоздила, то это есть их историческая заслуга, а если вам это недостаточно для моральной реабилитации этих людей, то думайте об этом, что хотите, наплевать нам на это. Нам интересно то, что полезно и правильно с точки зрения международной революции и революционного рабочего класса. … Моя точка зрения по вопросу о предательстве, моя личная точка зрения заключается в том, что здесь по сути дела никакого вопроса нет». Ему отвечала член ЦК ПСР Е.М.Ратнер «<…> здесь из политического предательства делается политический и моральный вывод: «если вы политические предатели, то вас, как предателей, морально можно предавать». Вот эта алгебраическая формула – минус на минус дает плюс – предатель, предающий предателя честен, вот эта формула, моральная формула, критики никакой не выдерживает, потому что политический отказ от максимальных требований, то что он называет предательством и моральным предательством растления собственной души, эта категория настолько разная и несоизмеримая, как фунт и аршин, и сочетать те и другие это все равно, что вычитать из фунтов аршины, или прибавлять к фунтам аршины. …В своем последнем слове я заявляю, что до тех пор пока вы будете заниматься не только политическим экспериментаторством, но и моральным экспериментаторством, до тех пор никакого права на название партии не только социалистической, но честной партии у вас не будет»58.
Однако вопрос о предательстве остро стоял еще на стадии подготовки процесса. Дело в том, что большевики хотели судить партию и ее ЦК, в этом и был смысл процесса, однако юридически это было невозможно. Выход нашли в том, что в список 140 обвиняемых в феврале 1922 г. включили имена всех знаковых фигур, всех видных эсеров (без учета их конкретной причастности к террору и экспроприации), а также тех эсеров, на причастность которых к этим деяниям указали Семенов и Коноплева. Однако в конце мая 1922 г. в два приема список обвиняемых первой группы сократили. В высшей степени любопытно, что критерием при принятии решения — оставить или амнистировать того или иного эсера в неочевидных случаях стал ответ на вопрос о политической опасности и готовности «морально разоружиться». Главным каналом «разгрузки» от «неудобных» обвиняемых, которых было не за что судить даже по советским законам, для Коллегии Верхтриба стало их амнистирование. Вот тогда-то вновь и вспомнили о подписках и даже сочинили новый текст: «Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что с момента принятия партией социалистов-революционеров (правых) на партийной конференции от 8 февраля 1919 г. резолюции о прекращении вооруженной борьбы с Советской Властью и опубликования Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом постановления об амнистии тем группам и отдельным лицам партии правых эсеров, которые разделяют решения и постановления указанной конференции и подписавшего соглашение с Советской Властью Комитета Членов Учредительного Собрания — я, разделяя, упомянутые постановления, действительно не принимал и не принимаю участие в какой-либо деятельности правых эс-эров или иных групп, направленной к подрыву или свержению Советской Власти или поддержке прямо или косвенно внутренней или внешней контрреволюции. Постановление о том, что настоящей амнистией не покрывается деятельность, направленная на организацию убийств отдельных представителей Советской Власти (террор) и подготовку или участие в вооруженных ограблениях (экспроприации) мне объявлено»59. Подписка заверялась следователем Верхтриба и секретарем Следственного Отдела Верхтриба при ВЦИК с приложением последним печати отдела. Смысл подписки, как и предыдущей заключался в том, что давший ее (как стали говорить десятилетие спустя) «морально разоружался» и навсегда закрывая себе дорогу назад к своим товарищам, фактически покупал себе свободу путем унизительной процедуры.
Из 17 намеченных для этого подследственных эту подписку дали все, кроме Злобина (отказался), Поспелова (по неясным причинам), Гомбарга (дело выделено из-за неявки «по независящим от него мотивам»)60. Подписки Несмеянова, Фейта и Верховского были написаны ими собственноручно и в свободной форме61. Уже на самом процессе Фейт, выступавший в качестве свидетеля обвинения, заявил, что считает «свое положение свидетеля» – «совершенно ненормальным», т.к. он состоял членом ЦК ПСР и несет «всю ответственность, моральную и юридическую», за его работу, и подчеркивал, что никакой подписки, понимаемой как некое обязательство, он не давал62. Пятаков поспешил сгладить ситуацию, заявив: «Это не имеет никакого отношения. Вы попадаете под амнистию 1919 года на основании которой судебная коллегия 20 мая с.г. Вас амнистировала. Так что Ваше положение как свидетеля нормально и законно»63. Тем не менее Фейт был прав в обоих случаях. Во-первых, если судить не отдельных лиц, а деятельность ЦК ПСР в целом (а именно это и происходило на практике), то суду подлежали все его тогдашние члены, в т.ч. и Фейт, во-вторых, то, что написал Фейт, действительно нельзя считать подпиской.
То, что хитроумный ход с Фейтом был не результатом небрежности следователя, а спланированной акцией по выводу из состава обвиняемых «лишних» людей, доказывает и то, что 27 мая 1922 г. бывших членов ЦК ПСР, возглавивших потом группу «Народ» и МПСР, Ракитникова и Буревого амнистировали без подписки, что свидетельствует, конечно, не о доверии к ним, а опасении, что они от нее откажутся и тогда хода назад для выведения их из процесса уже не будет. Интересно, что Судебная коллегия хотела по амнистии вывести из процесса еще нескольких человек, но в связи с их отказом дать подписки этот план провалился. Первым отказался от подписки Злобин, включенный в число 17 планировавшихся «подписантов». И делал он это не из идейных, а из моральных побуждений. Еще во время одного из своих арестов в 1921 г. Злобин заявлял, что хотя давно отошел от активной работы и по складу своей натуры тяготеет к «культурнической» работе, но выходить из партии считает недопустимым с моральной точки зрения в столь тяжелое для нее время. На подписке Злобин 19 мая 1922 г. написал следующее: «Желая нести ответственность, возлагаемую не на отдельных лиц, а на Партию и ничего не имея против подтверждения своею подписью текста подписки, как соответствующего моим убеждениям и деятельности, предпочитаю предстать пред судом и получить не амнистию, а оправдание»64. 27 мая 1922 г. от подписки отказался и Агапов, написавший на ней следующее: «От дачи всяких подписок, унижающих достоинство и честь ПСР и ее членов – отказываюсь»65. 30 мая 1922 г. то же самое проделал Берг: «От подписки подобных документов отказываюсь»66. В высшей степени примечательно, что амнистировать пытались даже тех лиц, против амнистии которых протестовало ГПУ (Альтовского, Горькова-Добролюбова и Утгоф-Дерюжинского). На своей подписке Горьков-Добролюбов написал: «От выдачи подобного рода подписки я отказываюсь»67. Альтовский был еще лаконичнее: «Никаких подписок не даю»68. Утгоф-Дерюжинский написал: «От выдачи подписки отказываюсь»69. Еще ранее (20 мая 1922 г.) пятеро бывших эсеров, ставших членами РКП(б), Городской, Сотников, Ракитин-Броун, Безсонов и Борисенко были амнистированы — «без отобрания у них установленной подписки»70.
Наконец, уже совсем накануне процесса двое из тех, кого перевели из обвиняемых в свидетелей, распространив на них действие амнистии 1919 г. – Белецкий и Рейснер – обратились к Трибуналу с неожиданной для всех просьбой: перевести их обратно в разряд обвиняемых. Однако в таком качестве они были суду совершенно неинтересны, и эта просьба удовлетворена не была. В свое время они «заслужили» перевод в обвиняемые тем, что Белецкий, не выдавая никого на допросе, заявил все же, что «будучи приглашен с воли в качестве свидетеля, он дал бы, наверное, лучшую картину того, что слышал и видел в главном изложенном здесь»71; Рейснер же на следствии давал более откровенные показания в отношении других лиц.
Эсерка Е.Л.Олицкая, прошедшая в своей жизни целую череду тюрем и лагерей, вспоминая об одном из эпизодов сидения в Верхне-Уральском политизоляторе в 1925 г. сделала весьма тонкое наблюдение, помогающее понять, что изменилось в самооценке политзаключенного советского времени по сравнению с царским, почему стало тяжелее, почему стало большее не выдержавших суровых испытаний, почему стало больше отступников и предателей: "Политических зэков сопровождают всегда специфические условия. Они не чувствуют за собой никакой вины перед своей совестью, перед своим народом, перед человечеством. В большинстве своем это люди, которые во имя блага других, как они его понимают, приносят в жертву свою личную жизнь. Из жизни, в которой они отказывали себе во всем ради борьбы, из борьбы за идеалы, ради которой они причинили боль своим родным и близким, их вырвали и посадили за решетку… Где-то идет борьба, здесь - бездействие, вынужденное, томительное… В царские времена было легче. Тогда мир делился на два лагеря - угнетателей и угнетенных. Тогда все лучшие люди, по крайней мере, сочувствовали жертвам неравной борьбы.
А теперь? Если у зэка рождалось малейшее сомнение в правильности тактических приемов его партии, если рождалось малейшее сомнение в ошибочности тактике его политических противников, ему приходилось плохо. Ведь он сидел в тюрьме, когда вокруг шла борьба за его идеалы. Как-то вечером, когда мы сидели и занимались, застучала, вызывая нас, нижняя камера. В ней сидел товарищ, принадлежавший к "народовольцам". Знали мы его мало, связь поддерживали чисто деловую, так как через него шла почта на нижний этаж. Высказывался он всегда очень лево и народнически. Я ответила на его вызов и стала слушать. По мере принятия слов, сердце мое сжималось. Он стучал: "Я пришел к заключению об ошибочности ряда положений… Я подал письмо с отказом от…". Мне было достаточно.
- Что ему надо? - спросил Шура.
Я сказала. Мы оба молчали. Нам нечего было отвечать ему.
- Надо известить старосту, - только и сказал Шура.
Тюрьма сломила еще одного человека.72
Примечания
1Статья подготовлена в рамках работы над проектом “Партийное правосудие” и правосознание революционной среды первой четверти ХХ века (на материалах судебно-следственных структур РСДРП и ПСР)”, осуществляемом при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 03-01-00234, и представляет собой расширенный вариант текста доклада, прозвучавшего на международной научной конференции “XIX век в российской истории и культуре (поиск новых подходов, приглашение к диалогу)” (Москва, 9-11 декабря 2004 г.), организованной Отделением историко-филологических наук РАН, ГА РФ, Санкт-Петербургским институтом истории РАН, Кафедрой “Общественно-политические движения XIX-XX веков” Государственного университета гуманитарных наук, журналами “Вопросы истории”, “Новая и новейшая история”, “Отечественная история”.
2 Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922 г.). Подготовка, проведение, итога. М., 2002. С.
3 Лонге Ж., Зильбер Г. Террористы и охранка. М. Советская Россия. 1991.
4 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об
5 См.: Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. Париж, 1911. С. 24-25; ГАРФ. Ф. 6212. Оп. 1. Д. 95. Л. 119-120
6 Бурцев В.Л. Дело с-р А.А.Петрова // Иллюстрированная Россия. Париж. 1939. N 21
7 См.: Б.В.Савинков и Боевая организация ПСР в 1909-1911 гг. Публ. К.М.Морозова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 18. М.-СПб., 1995. С. 264.
8 Hoover Institution Archives. B.Nicolaevsky Collection. Box 150. Folder 14.
9Там же
10 Hoover Institution Archives. B.Nicolaevsky Collection. Box 150. Folder 14.
11 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 6. Л. 7).
13 Там же. Л. 2
14 Там же. Л. 3
15 Там же. Л. 3 об., 4.
16 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 7. Л. 15
17 Там же. Л. 4
18 Там же. Л. 19-20
19 Там же. Л.42
20 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. . Л. 2-3
21 Там же. Л. 25-25 об.
22 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 4. Л. 172
23 Там же. Л. 96 об.
24 Из показаний Г.А.Алексинского видно, что настоящее имя Веры Юлия Ивановна Жилевич, происходила она из бедной семьи, окончила гимназию и в описываемое время была организатором Рогожского района (Там же. Л. 105).
25 Там же. Л. 178
26 Там же. Л. 52, 53
27 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 160. Л. 166-167
28 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 285. Л. 11.
29 Дейч Л.Г. 16 лет в Сибири. С. 175-176
30 Там же. С. 180-181, 197-198)
31 МИСИ. Архив ПСР. 531.
32 МИСИ. Архив ПСР. 531
33 МИСИ. Архив ПСР. 531
34 Там же
35 Там же
36 Там же.
37 МИСИ. Архив ПСР. 531.
38 Там же.
39 См.: Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. Париж, 1911. С. 24-25.
40 Там же .С. 434
41 Там же .С. 435
42 Там же. Л. 28
43 Троцкий Н. Исключительный случай // Будущее. 1912. 9 июня. № 33.
44 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 32. Л. 1
45 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 160. Л. 431
46 Там же. Л. 431
47 Там же. Л. 432-433.
48 Там же. Л. 433.
49 Там же. Л. 434-436.
50 Там же. Л. 437.
51 Олицкая Е. Мои воспоминания. Frankfurt/Main. Посев. 1971. Т.1. С.271.
52 Там же. С. 305-306
53 Цит по: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922). Подготовка, проведение, итоги / Сост. Красильников С.А., Морозов К.Н., Чубыкин И.В. М., РОССПЭН, 2002. С. 33
54 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 65. Л. 47-48
55 Там же. Л. 94.
56 Интереснейшее исследование петербургского историка Б.И.Колоницкого убедительно свидетельствует, что февральские события 1917 г. стали возможны из-за глубокого проникновения революционной. традиций и символов, помогавших толпе самоорганизоваться: “Люди разных убеждений, разного возраста и социального положения, в различных, подчас совершенно необычных ситуациях могли действовать солидарно, ибо все они были знакомы с революционной традицией, их действия регулировались общим культурным кодом поведения. При этом важнейшим инструментом самоорганизации стали революционны символы, прежде всего песни и красные флаги» (Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года.СП(б). 2001. С.22).
58 Цит по: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922). Подготовка, проведение, итоги / Сост. Красильников С.А., Морозов К.Н., Чубыкин И.В. М., РОССПЭН, 2002. С. 781
59 Там же. Л. 370.
60 Там же. Л. 369 — 373, 377 — 384, 395.
61 Там же. Л.372, 373, 385. Бывший член ЦК ПСР Фейт написал: “Со времени Октябрьской революции я не участвовал в террористических актах, направленных против представителей власти, равным образом участия в экспроприациях не принимал и на заседаниях Центрального комитета, где разбирались бы эти вопросы, не участвовал. С 18-го года от дел партии устранился» Там же. Т. 4. Л. 372
62 Там же. Т. 23. Л. 512.
63 Там же.
64 Там же. Л. 380.
65 Там же. Т. 4. Л. 447.
66 Там же. Л. 477.
67 Там же. Л. 448.
68 Там же. Л. 449.
69 Там же. Л. 450.
70 Там же. Л. 396.
71 Там же. Т. 2. Л. 222.
72 Олицкая Т. 1. С. 305-306