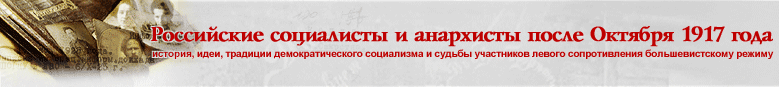
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Интервью с Я.Мееровым (Д.М. Бацер)
Опубликовано в кн.: Минувшее. Исторический альманах. Париж, 1989. Вып. 7. С.
232-243.
Псевдоним Т.Сонина раскрыт по списку псевдонимов, опубликованном в 11 выпуске альманаха
Минувшее.
Подлинник интервью хранится вместе с бумагами и фотоколлекцией Д.М.Бацера в Архиве
Мемориала.
Интервью было взято на рубеже 1980-1981 гг. и призвано было дополнить статью
Д.М.Бацера
"Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов",
опубликованную (под псевдонимом
Т.Тиль) в 1980 г. в Париже в 3-м выпуске сборника "Память".
При подготовке настоящей публикации была проведена сверка машинописного оригинала интервью с текстом, опубликованным в "Минувшем", в ходе которой были выявлены разночтения. Синим цветом обозначены фрагменты рукописи, опущенные при публикации, красным - имеющиеся в печатном варианте, но отсутствующие в рукописи.
Вот как выглядит первая страница оригинала интервью
Вы были участником социал-демократического молодежного движения в 20-е годы?
– Да, с конца 1921.
Как долго Вы участвовали в этом движении?
– Фактически - два года с небольшим; возможность дальнейшей работы была пресечена первым арестом, за которым последовала "череда" заключений, ссылок и "минусов".
Знакомы ли Вы со статьей Т.Тиля "Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов" в 3-м выпуске сборника "Память"1? Если да, то что Вы можете про нее сказать?
– Статью Т.Тиля я читал, но, как и автор, могу полагаться только на свою память. Существенных ошибок я не заметил, хотя ряд мелких неточностей все же имеется. Так, например, Андрей Кранихфельд родился не в Саратове, а в Самаре. С уверенностью могу утверждать, что если информация о расстреле в Норильске "группы Иоффе" верна, то, вопреки предположению Тиля, этот Иоффе не имел ничего общего с упоминавшимся в статье Борисом Иоффе. Последний, по крайней мере в 70-х гг., был жив, здоров и невредим. Один из одесских социал-демократов назван Сергеем Антоновичем Кржижановским. На самом деле, его фамилия Крыжановский. Насколько мне известно, в Соловках он не был. Путь его был примерно таков: арест в 1925 году, ссылка в Нарымский край, "минус" в одном из приволжских городов (не то в Ульяновске, не то в Самаре), снова - арест и заключение в Верхнеуральский политизолятор, ссылка в Йошкар-Олу, "минус", а затем, в 1936 г. - новый арест и 8 лет заключения в Воркутлаге. Участвовавшего в попытке самосожжения с.-р. Сазонова звали не Вениамином, а Василием.
– Более существенным представляется мне два других недостатка, вероятно, неизбежные в очерке, основанном, главным образом, на личных воспоминаниях. Первое: статья заметным образом окрашена в субъективные тона. Второе: Т.Тиль уделяет много внимания внешней стороне событий и очень мало - идейному их содержанию. Из статьи, например, невозможно узнать, какова была выработанная в Короче программа, очень мало сказано о программе, принятой на Ирпенской конференции. Я и сам бы не решился изложить эти программы, не имея в своем распоряжении документов, но объясненный недостаток не перестает быть недостатком.
Ваша судьба определилась Вашим участием в социал-демократическом движении в начале 20-х годов. Насколько осознанно был сделан Ваш Вами выбор определивший Вашу судьбу? Какие события Вашей жизни подтолкнули Вас к участию в подпольной политической деятельности? Можете ли Вы предположить, что Ваши товарищи вступили на этот путь, движимые аналогичными импульсами? Вообще, можно ли говорить об общих чертах в психологии, мировоззрении, и - шире - в мировосприятии Вашего поколения и, в частности, тех молодых людей, которые выбрали для себя политическую борьбу с режимом?
– Я могу говорить только о себе и лишь в той мере, в какой мои мотивы совпадают с изложенными в статье Т.Тиля, их можно экстраполировать на более или менее широкий круг товарищей.
Ретроспективно оценивая прошлое, я думаю, что выбор мой был сделан сознательно. В сущности, я был социал-демократом, когда не был связан не только с какой-либо социал-демократической организацией, но и с отдельными социал-демократами. Я не могу назвать каких-либо конкретных событий личной жизни, которые привели бы меня - не к политической деятельности, это слишком громко сказано, - а к очень скромной работе в одном из социал-демократических кружков. Разве что событием личной жизни считать усердное чтение общественно-политической литературы. Безусловно, крупную роль сыграли политически события, которые приходилось наблюдать и о которых можно было знать из газет и другой текущей литературы. В частности, огромную роль сыграло неприятие так называемого "красного террора", отсутствие нормально функционирующего суда. Припоминаю, например, как в 1920 г. мы с двоюродным братом бродили летом по городу и случайно, впервые в своей жизни, забрели в народный суд. Разбиралось два совершенно одинаковых дела, оба - о вооруженных ограблениях. Всех судившихся по первому делу приговорили к расстрелу (в том числе и нескольких женщин), подсудимых по второму делу - к разным, в общем небольшим, срокам заключения. Даже юридически неискушенному уму было ясно, что оба приговора просто произвольны. Еще более отталкивающее впечатление оставляли сведения о бессудных расстрелах, в частности "заложников". Сообщения о них публиковались даже в официозной прессе.
Но главную роль, конечно, играло стремление разобраться в происходящем, чтение самой разнообразной литературы, в частности, исторической. Не помню точно, когда я прочитал 1-й том "Истории русской общественной мысли" Плеханова, введение к которой оказало большое влияние на формирование моих взглядов.
Что касается психологии - и тут, может быть, я могу говорить не только за себя лично - то ее, как мне кажется, Тиль обрисовал довольно точно довольно точно обрисовал Тиль в своей статье "Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов": перефразируя того же Плеханова - смесь практического идеализма с теоретическим материализмом.
Сознавали ли Вы риск, связанный с Вашим решением?
– Конечно, сознавали, мало того - прекрасно знали размеры этого риска. До конца 1922 г. - ссылка от 2 до 3 лет. С 1923г. - Соловки или политизолятор, как правило 3 года, реже 2. С 1925 и до начала 30-х - довесок к политизолятору в виде ссылки; с того же времени риск увеличивался угрозой нового, беспричинного ареста, когда человек попадал в круговорот - "политизолятор - ссылка - "минус"", потом снова - "политизолятор - ссылка - "минус"". И так было до 1934 г. Иногда какое-то звено выпадало; единицам удавалось выплыть из этого круговорота и даже получить или закончить образование. В 1934 г. повторные аресты и "минусы" на короткое время почти сошли на нет, а потом началось преддверие 1937г., когда степень риска никто уже не мог определить, и никто не мог этого риска избегнуть. Кой-кого 1937 г. обошел; в 1941 г. были подобраны почти все остатки.
Предчувствие тридцать седьмого года, непредсказуемых событий и степень увеличения размеров риск стали ясно осознаваться лишь в 1930-1931 гг., после процессов "Промпартии" и "Союзного бюро меньшевиков".
От товарищей, попавших в орбиту этих процессов, нам стали известны детали, касающиеся подготовки этих процессов, "новые методы" допросов, которые, собственно, предвосхищали, может быть в меньшем объеме и с меньшей жестокостью, методы 1937 г., но в принципе ничем от них не отличались.
Остановило ли бы нас знание того, что предстоит? Думаю, что большинство запугать было уже нельзя, уже по одному тому, что молодости свойственны некоторые самоуверенность, самонадеянность и уверенность (во многих случаях обманчивая), что "мы можем выдержать все".
Верили ли Вы в успех Вашего дела, или это была "борьба обреченных"?
– Конечно верили. Ни один человек в здравом уме не вступит на путь политической борьбы, заранее зная, что она обречена. Правда, с каждым годом перспективы становились все более мрачными, и возможный успех отодвигался во времени все дальше и дальше. Сознание обреченности возникло тогда, когда уже не было никакой борьбы. Но и тогда - по крайней мере у тех, кого я знал, - оставалась надежда, что борьба вновь начнется (хотя и без нас, и не в той форме, какую мы предполагали) и завершится успехом.
Чувствовали ли Вы когда-нибудь свою и своих товарищей духовную изоляцию, как бы "отчужденность" от Ваших сограждан? Встречали ли Вы сочувствие Вашему делу в массах?
– Если говорить о массах, то я лично просто не имел с ними дела. От товарищей, принадлежащих к моему же поколению, я знаю, что они в 1920-23 гг. встречали сочувствие со стороны рабочих, когда выступали на фабричных и заводских собраниях. Сведения эти относятся, главным образом, к печатникам Москвы, металлургам Тулы, рабочим Кременчуга, Ростова-на-Дону, Екатеринослава, Витебска. Несомненное сочувствие они, насколько я знаю, встречали в 1921 на предприятиях Петрограда. Какое-то сочувствие - и это я уже говорю по личному опыту - мы встречали среди интеллигенции. Оно проявлялось, в частности, во время сбора средств для арестованных. Я знал честных врачей, которые, по крайней мере, до середины 20-х годов отказывались получать гонорар со ссыльных, помогали нуждающимся лечь в больницу, по возможности, помогали устроиться на работу. С конца 20-х и, особенно с начала 30-х годов все больше и больше чувствовалась боязнь общения со ссыльными, а к 1931 вокруг них образовался вакуум.
Какие отношения были у социал-демократов с представителями других политических течений - эсерами, левыми эсерами, анархистами? Как складывались отношения с участниками различных оппозиций внутри ВКП (б) - рабочей оппозицией, троцкистами, сторонниками Бухарина?
– В тюремном быту представители всех политических течений были довольно тесно спаяны, хотя среди социалистов-революционеров и особенно анархистов большое влияние имели несколько экстремистские настроения. В борьбе с тюремным начальством они обычно занимали более крайнюю позицию, чем социал-демократы. Особенно это сказалось, в частности, на позициях социал-демократов, левых эсеров и анархистов после известного соловецкого Соловецкого расстрела 1923. Политически же левые эсеры и анархисты были для социал-демократов людьми чужими, что не мешало чисто личным отношениям. Политически наиболее близки были к социал-демократам социалисты-революционеры центристского толка; политический союз с ними, начавшийся еще в 1917 г., продолжался, несмотря на теоретические разногласия, и позднее. Сколько мне известно, уже после Второй мировой войны, эмигрантские группы социал-демократов и социалистов-революционеров, находившиеся в Соединенных Штатах, слились в одну организацию.
Среди политзаключенных, особенно конца 20-х и начала 30-х гг., было большое количество грузинских социал-демократов, которые как будто бы и в вопросах теории и в вопросах практики были наиболее близки к русским социал-демократическим элементам. Насколько я могу судить по личным впечатлениям, даже в условиях тюремной жизни полного слияния не произошло, а сами они делились на две группы: сторонники Н.Жордания и последователи И.Церетели. Первые (к ним принадлежала почти вся молодежь) не чувствовали какой-либо органической связи своей партии с российской социал-демократией. С нашей точки зрения, это была прежде всего национальная партия. Во вторую группу, значительно меньшую, входили люди старшего поколения, которые, вслед за И.Церетели, рассматривали себя как органическую часть РСДРП и отделение Грузии от России считали исторической трагедией. Я помню слова старого социал-демократа, бывшего политзаключенного Месиашвили Мосиашвили, по прозвищу "Папа", который во время тюремной прогулки с характерным грузинским акцентом говорил, показывая рукой на русских социал-демократов и обращаясь к грузинской молодежи: "Вот мои товарищи! Вы мне не товарищи! Ви мнэ нэ товарыщи!".
Что касается отношений с представителями оппозиции в ВКП (б), то, по моим наблюдениям, они пережили несколько стадий. Сначала, примерно с 1928 г., в более или менее крупных городах, которые для социалистов были, как правило, местами не ссылки, а "минуса", стали появляться первые троцкисты. Это были скорее не ссыльные, а опальные вельможи, которые соответственно себя и вели. В ссылке они занимали более или менее крупные посты (я слышал, например, что ссыльный троцкист Россет стоял одно время во главе Среднеазиатского Госплана). Никаких точек соприкосновения , ни житейских, ни каких-либо других - не было и быть не могло. Кстати сказать, и материальное положение их было подчеркнуто иным, чем у ссыльных социалистов. Если, например, безработные ссыльные-социалисты получали 6 р. 25 к. месячного пособия, то ссыльные оппозиционеры получали не то 70 р., не то даже больше.
В самом начале 30-х гг., когда оппозиционеров начали отправлять в политизоляторы, для них были выделены отдельные камеры, образовавшие так называемый "коммунистический сектор", и с другими политзаключенными они не соприкасались даже на прогулках. Но какие-то контакты между ними стали неизбежными, прежде всего, потому, что внутритюремная переписка оппозиционеров могла в большинстве случаев передаваться только с помощью некоммунистического сектора, а почтальонами для последнего неизбежно должны были стать оппозиционеры. Далее контакты сами собой стали возникать на почве столкновений с тюремным начальством, а в некоторых случаях они приводили к совместным действиям. Так было, например, в Верхнеуральске, после ранения дециста (фамилии его не помню2), на которое оба сектора ответили дружной обструкцией, а затем и голодовкой. Голодовка, правда, получилась далеко не дружной. Оппозиционеры, объявив голодовку, выставили список требований. Начинался он со смены Политбюро ВКП (б), а кончался увеличением количества "оправок" с 2-х до 3-х. "Некоммунистический сектор" ограничился объявлением голодовки протеста, продолжительностью не то в 3, не то в 5 дней, указывая своим невольным сотоварищам на то, что, объявляя голодовку без ограничения срока, надо идти до конца, а это возможно только тогда, когда голодающие ставят перед собой реалистические цели. И тогда голодовка может кончиться либо успехом, либо компромиссом, либо смертью голодающих. Пытаться путем голодовки добиться смены Политбюро было, по меньшей мере, нереалистично, а умирать за 3-ю оправку и лишнюю тумбочку у стола - явно не стоило. В письме, обращенном к "коммунистическому сектору", социалисты указывали на свой тюремный опыт, показавший, что совместная голодовка нескольких сот человек, отделенных друг от друга, обречена на провал. Так и случилось. Примерно с 4-5 дня от голодовки начали отходить сначала один, потом другие, а вскоре и голодовка кончилась ничем. Этот небольшой эпизод способствовал тому, что у "коммунистического сектора" увеличилось доверие к "некоммунистическому", а это, в свою очередь, привело к более тесным контактам, обмену письмами, ознакомлению друг друга со своими взглядами и т.п.
Некоторую роль в сближении обоих секторов сыграл член Политбюро Югославской компартии А.Цилига. В 1930 г. на Челябинской пересылке произошла занятная встреча группы социал-демократов, преимущественно молодых, шедших в Верхнеуральский политизолятор, со следовавшим туда же Цилигой и его товарищем, рабочим Воловачем, тоже, кажется, членом Политбюро или ЦК. Как говорил сам Цилига, знакомство было для него чем-то неожиданным. Он полагал, что молодые русские меньшевики - это буржуазные сынки, ярые противники марксизма, социализма и т.д., и что они представляют собой какие-то единичные и достаточно архаичные "осколки разбитого вдребезги". Вместо этого он встретил молодых людей явно демократического происхождения, в облике которых не было ничего буржуазного, и которые свято верили в принципы социализма и марксизма. Между ним и этими социал-демократами возникли довольно близкие отношения, которые продолжались и по прибытии в политизолятор. По-видимому, Цилига, пользовавшийся авторитетом среди своих товарищей-оппозиционеров, дал им боле точное представление о том, что из себя представляют русские социал-демократы. Боюсь, что некоторую роль в дружеских чувствах Цилиги к своим попутчикам сыграли чары молодой и очень привлекательной одесской социал-демократки Оли Ашпис.
В Челябинской пересылке Цилига как-то сказал своим новым знакомым, что они напоминают ему немецких комсомольцев (прежде чем переехать в СССР, Цилига жил некоторое время в эмиграции в Германии), а советские чиновники - немецких профсоюзных бонз. Молодые социал-демократы в восторг от этого комплимента не пришли.
Не знаю, как сложились отношения между социалистами и коммунистической оппозицией после 1932-1933 гг., когда репрессии по отношению к коммунистам стали принимать все более суровый характер. В ссылках, насколько мне известно, начали возникать чисто личные контакты. Насколько часты они были, судить не берусь. Но политического сближения не было никогда. Слишком далеки они были от социал-демократов, как идейно, так даже чисто психологически. В частности, ироническое недоумение вызывал их "вождизм". Припоминаю, как 1 мая (в 31 или 32 г.), троцкисты устроили на прогулке нечто вроде митинга. До нас доносились возгласы: "Да здравствует наш вождь Лев Давыдович Троцкий! Да здравствует наш вождь Иван Никитич Смирнов!". Последний, кажется, был среди возглашавших...Нас все это и изумляло и веселило. Политические устремления оппозиционеров, в конечном счете обращенные в прошлое, идеализация ими эпохи Гражданской войны, также не могли вызвать у нас никакого сочувствия.
Правда, не помню точно когда, вероятно в конце 20-х гг., когда в качестве главы оппозиции выдвинулся Троцкий, Ф. И. Дан писал в "Социалистическом вестнике", что в Троцком заговорила его меньшевистская совесть. Находившиеся в России социал-демократы никаких признаков "меньшевистской совести" в Троцком не усматривали и политический союз не только с троцкистами и зиновьевцами, но даже и с более умеренными "правыми" считали, как мне кажется, невозможным. Конечно, были и исключения. Но в основном, борьба между всеми оппозициями и сторонниками генеральной линии рассматривалась нами, как борьба за власть. Конечно, программы рабочих оппозиций начала 20-х гг. вызывали у нас больше симпатии, чем платформы Зиновьева, Троцкого и т.д. Однако, в начале 20-х гг. взаимное отталкивание было слишком сильным.
Как Вы представляли себе в те годы "реальный социализм"?
– Социал-демократам, в частности - русским, всегда было чуждо то, что немцы называли Zukunftsmalezei (рисование картин будущего). В русской социалистической литературе конца XIX - начала ХХ вв. начисто отсутствовал жанр утопии. Единственным исключением были романы А.А. Богданова, тогда большевика - "Инженер Монин", "Красная звезда". Конкретные задачи будущего, очевидно, должны были решать и люди будущего. Было другое: представление о характерных признаках будущего и о тенденциях. Довольно точно, на мой взгляд, социалистическое будущее охарактеризовал в нескольких словах К.Каутский в одной из своих работ начала века - строгое планирование экономики и полная анархия в области идеологии (передаю по памяти смысл, а не точные слова). При этом строгое планирование производства отнюдь не означало национализации или социализации всех средств производства и "ликвидацию как класса" всех малых производителей. Едва ли какому-нибудь марксисту приходило тогда в голову, что совладелец токарной мастерской Август Бебель должен быть причислен к лику тех экспроприаторов, коих следует экспроприировать. Под словами Каутского, мне кажется, мог бы расписаться любой молодой социал-демократ 20-х гг., стой оговоркой, то они относятся не к настоящему, но к будущему (для левых социал-демократов - более или менее близкому, для правых - более или менее далекому).
Продолжаете ли Вы считать себя и ныне социалистом? марксистом? социал-демократом? Изменялись ли Ваши взгляды с годами?
– Социалистом - безусловно; марксистом - с незначительными оговорками. Что касается термина "социал-демократ", то он, как и многие другие слова, присвоен столь разными политическими течениями, что социал-демократом я могу себя назвать только с прибавлением эпитета "русский".
Естественно, за 60 лет жизнь настолько изменилась, и произошло столько событий, что это не могло не вызвать известной эволюции моих взглядов. В частности, я не могу называть себя ортодоксальным марксистом, в том смысле, в каком это слово употреблялось в России с конца XIX века (конечно, когда я говорю о марксизме, я не имею в виду ту его своеобразную интерпретацию, которую ему дали после 1917 русские большевики, а уж тем более его истолкователи новейшей формации).
С моей точки зрения, марксистская теория в целом является предельным случаем, применимым к определенной стадии развития человеческого общества, ведущей начало с XVII-XVIII вв. Во второй половине XIX в. это была теория, обладавшая огромной притягательной силой. Сейчас, по-видимому, экономическая теория Маркса, в частности, теория стоимости (о которой ее противник Шумпетер сказал, что она является величайшим достижением экономической мысли 19-го столетия) никого уже не интересует. На экономическую практику гораздо большее влияние оказали, скажем, Кейнс или Гэлбрейт.
Из теоретического наследия Маркса внимание западной интеллигенции привлекает, например, проблема отчуждения. Меня лично вопросы подобного рода интересуют очень мало. В теории Маркса для меня до сих пор главным остается то, что, говоря словами того же Маркса, "социальное бытие определяет общественное сознание".
Однако, этот тезис мы, думается, истолковывали не всегда удачно. Когда-то яростно опровергавшийся всеми ортодоксальными марксистами ревизионизм Бернштейна, заключал в себе много верного. Я говорю не только о том, что он оказался прав в таких конкретных вопросах, как увеличение доли интеллигентского труда, большая, чем предполагалась ранее, устойчивость мелкого сельского хозяйства и т.п., но и в гораздо более кардинальных вопросах.
Так называемые ортодоксальные марксисты грешили, на мой взгляд, двумя или даже тремя методологическими ошибками, в которых они сами были более повинны , чем Маркс. Во-первых, несмотря на новые явления в жизни цивилизованных стран, такие, как развитие новых форм капитализма (финансовый капитализм), растущее вмешательство государства в экономическую жизнь и даже первые попытки регулирования ее (так называемая "смешанная экономика"), ортодоксальные марксисты продолжали недооценивать еще далеко не исчерпанные возможности развития производительных сил в рамках капиталистического общества.
Вторая ошибка заключалась в следующем: по представлению всех марксистов, стоительство социалистической экономики и социалистического общества начнется только после того, как социалисты придут к власти. Такой ход событий в сущности противоречит всему прежнему историческому опыту. После промшленной революции в Англии, Франции, а затем и в других странах, развивались не предпосылки буржуазного общественного строя, не условия развития капиталистического производства, а само капиталистичнское производство и соответствующие ему общественные отношения. И буржуазные революции не создавали этих условий и предпосылок, а лишь способствовали укреплению и развитию выросшего в рамках феодализма капиталистического способа производства и буржуазного строя.
Трудно сказать, почему такой ход развития считался невозможным, когда речь шла о смене капиталистического строя социалистическим. Возможно, что такой ход мыслей был связан с некоторыми реальными политическими вопросами. Начиная с середины XIX века социал-демократия, отождествлявшая себя с интересами рабочего класса, шла от одного избирательного успеха к другому и приобретала все больше мест в парламентах. Экстраполируя такое движение на будущее, социал-демократия приходила к убеждению, что рано или поздно она завоюет большинство в законодательных органах, и это будет необратимым. Тогда-то социал-демократия и приступит к преобразованиям общества.
Фактический ход событий не подтвердил такого оптимистического взгляда. Лейбористская партия в Англии неоднократно приходила к власти, но затем уступала место консерваторам. Шведские социал-демократы беспрерывно находились у власти около 40 лет. За это время они путем частичных реформ, касающихся главным образом перераспределения доходов, превратили Швецию в новую страну, с самым высоким уровнем жизни, самой совершенной системой социального обеспечения, максимальной свободой развития личности.
Тем не менее, на выборах в 1976 г. большинство шведских избирателей социал-демократов не поддержали; к власти пришла коалиция буржуазных партий. Но важнее всего то, что эти последние ни одной из проведенных социал-демократами реформ затронуть не смогли. В Англии консерваторы один раз денационализировали сталелитейную промышленность, но после повторной ее национализации лейбористами премьер-министр М.Тэтчер как будто не решается вторично ее денационализировать.
По-видимому, ростки социализма все-таки произрастают в рамках капиталистического общества, и, вероятно, для укрепления их, по крайней мере в странах европейской цивилизации, насильственной революции не потребуется.
Как бы Вы охарактеризовали теперь историческую роль социал-демократического движения в России, в частности - его послереволюционный период?
– Как безнадежную попытку влить русское рабочее движение в общее русло европейского социалистического развития. Это не значит, что ретроспективно я считаю ненужной деятельность российских социал-демократов. В более далекой исторической перспективе то, что кажется сейчас практически бессмысленным, может оказаться значительным и исторически оправданным.
Примечания
1 "Память", исторический сборник, вып. 3, Париж, 1980. Стр. 165-283.
2 По сведениям А.Цилига, это был троцкист Габо Есаян. См. примечание 39 (с. 236) в статье Т.Тиля "Социал-демократическое движение молодежи 1920-х годов". - прим. ред.