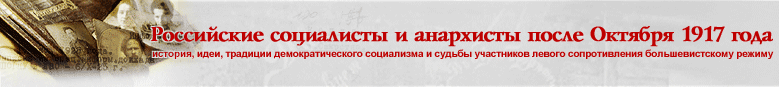
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Интервью с составителями сборника документов “Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922): Подготовка. Проведение. Итоги / Сост. С.А.Красильников, К.Н.Морозов, И.В.Чубыкин. – М.: РОССПЭН, 2002. – 1007 с. – (Серия “Архивы Кремля”) – С.А.Красильниковым и К.Н.Морозовым.
Представление интервьюируемых и сферы их научных интересов
|
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ: |
Справка: доктор исторических наук, зам. директора Института истории Сибирского отделения Академии наук, зав. кафедрой истории Новосибирского государственного университета Член Совета новосибирского отделения общества “Мемориал” (участвует в работе общества с конца 80-х годов). |
В моей научной деятельности основным стала подготовка и издание документальных научных публикаций, посвященных тому периоду, который мы традиционно называем “переходным” (по старой терминологии), проще говоря, это 20-30 годы. И, пожалуй, самое существенное, в чем мне удалось до этого времени участвовать и создать, это документальная серия о спецпереселенцах Западной Сибири в 30-е – начале 40-х годов. Я был одним из основных ее составителей. Это издание вышло в Новосибирске в первой половине 90-х годов и было посвящено трагедии деревни и репрессированным крестьянам, которые оказались в спецпоселках на территории Сибири. В свет вышли четыре части серии.
Проект, о котором мы будем говорить сейчас, вызрел как естественное продолжение документальных изданий. Это открытия, которые за последние десятилетия историки предлагают не в сыром виде, отдельными документами, а как издания, прошедшие серьезную предпубликационную подготовку, снабженные научными предисловиями с элементами археографического анализа. Справочный аппарат таких изданий включает в себя и корпус комментариев, и указатели. Мы постепенно пришли именно к такому серьезному, солидному стилю. И то издание, о котором пойдет речь, вызрело как часть большого проекта, начавшегося в начале 90-х годов, когда шло “ураганное” раскрытие или рассекречивание того, что хранилось в федеральных архивах. Этот проект возник в недрах Росархива по инициативе историков-исследователей и получил название “Архивы Кремля”. Раньше название было более длинное – “Архивы Кремля и Старой Площади”. Подразумевалось, что рассекречивание и дальше будет идти семимильными шагами. Историков давно волновал самый закрытый архив - архив Политбюро ЦК КПСС. И нам удалось в начале 90-х годов с помощью Росархива получить доступ к так называемым тематическим делам. Это комплекс документов, которые формировались внутри делопроизводства Политбюро по отдельным темам. И, в частности, была идея, что серия “Архивы Кремля” будет представлять последовательную публикацию группы тематических дел, иллюстрируя, как разрабатывались и принимались политические решения по ключевым вопросам.
И вот в этой серии “Архивы Кремля” руководителем и ответственным редактором, вдохновителем которой стал сибирский историк, академик Николай Николаевич Покровский, уже материализована первая часть этого проекта - вышел в двух томах очень солидный документальный сборник под названием “Политбюро и церковь”, в основу которого легли тематические дела из архивов бывшего Политбюро за период первой половины 20-х годов. Там совершенно четко прослеживается, как разрабатывалась партийная государственная политика по отношению к русской православной церкви в течении этих пяти лет, первой половины 20-х годов. Мы не собирались ставить точку и решили, что следующее издание будет посвящено одному из ключевых событий 20-х годов – подготовке большевиками первого открытого и публичного судебного процесса над группой руководителей партии социалистов-революционеров. И мы в данном случае с Константином Николаевичем Морозовым являемся основными публикаторами этого сборника документов.
|
К.Н.МОРОЗОВ: |
Справка: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э.Баумана. Член Совета НИПЦ “Мемориал” и руководитель программы “Социалисты и анархисты – участники сопротивления большевистскому режиму (25 октября 1917 г. – конец 30-х гг.). |
Эсеровской темой я занялся со студенческой скамьи и к 1995 г. защитил кандидатскую. В том же году я участвовал в проведении на базе “Мемориала” международной конференции, посвященной индивидуальному политическому террору. Конференция прошла достаточно удачно, был представлен широкий круг исследователей. И, в общем, она не сбивалась на крикливость и излишнюю полемичность, а прошла на хорошем научном уровне, насколько это вообще было возможно по степени изученности данной темы на середину 90-х годов.
Позже была работа над сборником по эсеровскому процессу, а затем и работа в мемориальской программе, посвященной борьбе социалистов с большевистским режимом. Кроме того, тема, которой я увлекся в последние годы - это различные аспекты революционной субкультуры на рубеже ХIХ-ХХ вв.
Сергей справедливо отметил, что идея сборника пришла из Новосибирска, и Сергей подключил меня по рекомендации Н.Г.Охотина через год или полтора существования проекта. Требовался человек, знающий, понимающий, ориентирующийся в эсеровской проблематике. Позже я привлек еще одного соавтора, понимая сложность проблем, необходимость проделать огромную работу как по сбору фактического материала, так и необходимости ориентации в малоизученных областях (если дореволюционный период эсеровской партии изучен относительно неплохо, то 20-е годы к 1995 году было практически белым пятном, за исключением лучей света в темном царстве вроде книги голландского историка Марка Янсена “Суд без суда” и его сборника документов, посвященных эсеровской партии после 1917 года). С этой целью, чтобы усилить наш авторский коллектив, был привлечен Игорь Чубыкин, который стал нашим третьим соавтором. Он писал кандидатскую диссертацию по эсеровской эмиграции начала 20-х годов. Игорь Чубыкин работает в МГУ на кафедре истории ФГУ, есть там такое структурное подразделение и является кандидатом исторических наук. И уже на самом последнем этапе нашей работы, в последний ее год, когда стало ясно, что и комментарии к документам и биосправки грешат разностильем, пробелами, когда мы уже сами перестали понимать, что у нас есть, чего нет, когда мы своим “замыленным” за пять лет работы взглядом ничего уже не видели в ворохе собранного нами материала, мы с Сергеем обратились за помощью к Алле Морозовой, редактору РОССПЭНа, для того, чтобы она взяла в свои руки контроль над этим и провела фактически еще раз всю разметку комментариев и биосправок. Кроме этого, она по нашей просьбе написала нам больше полусотни биосправок, фактически став четвертым нашим соавтором (а позже и редактором), но от включения ее официально в число составителей сборника она отказалась, так как на этапе составления не работала. Удалось лишь уговорить отразить ее работу в копирайтах сборника.
В данном составе, на мой взгляд, уравновесились сферы наших интересов, что помогло придать некоторую равновесность сборнику. При работе над этим проектом, для меня было важно раскрыть процесс не с точки зрения организации его большевистской властью, а показать другую сторону этого процесса. Основная часть документов, которые были извлечены из секретного архива Политбюро ЦК ВКП(б) и хранились затем в Архиве Президента, эти три тематических дела были посвящены прежде всего и более всего механизму организации процесса большевиками. И нашей серьезной задачей стал подбор документов, которые бы показали другую сторону. Во-первых, они позволили бы отойти от этих формальных делопроизводственных документов, которые порой излишне подробно и занудливо рисовали второстепенные и третьестепенные бюрократические детали постановки процесса, но оставляли в тени многие важнейшие вопросы, которые возникают, когда сталкиваешься с процессом. Это вопросы идейного и вооруженного противостояния эсеров большевикам, и вопросы, которые привлекали в советское время интерес к этой теме, это мужество, которое продемонстрировали эсеры на этом процессе. Мы узнали о процессе эсеров по словам Шаламова, о том, что правые эсеры были единственные, уходившие с подобного рода процессов, которые не вызывали отвращения, ужаса, омерзения и т.д. И именно эту часть, эту составляющую судебного процесса над эсерами меньше всего отразили документы Политбюро. Документы, отражающие противостояние и мужество подсудимых пришлось искать, выявлять, брать из разных источников, в общем, проводить огромную работу. Жанровая заданность фондовой публикации привела к тому, что имелся ряд проблем с компоновкой материала, но приложениями мы постарались отразить и другие очень важные стороны процесса, недостаточно освещенные в основной части сборника.
Сразу хочу отметить, что нашу работу нельзя рассматривать как окончательную, нельзя ставить точку на этой теме. Сейчас совершенно ясно, что тема сама по себе настолько многогранна, настолько сложна, что она значительно шире, чем просто проблема формальной организации процесса. Она многоаспектна, и многие из этих проблем, этих аспектов, мы только-только начинаем осознавать, в частности - историческое значение процесса, историческое значение того, как большевики вытоптали все политическое поле и уничтожили всех людей, которые старались быть честными в политике, людей, из которых могла бы вырасти нормальная политическая элита и которых уничтожали большевики с криками на том же процессе, что победителей не судят, и коли мы победили, мы правы и т.п. Фактически мы поднялись еще на одну ступеньку в осознании и в понимании самых различных сюжетов, часть из которых мы только начали исследовать, только наметили, но довести до конца у нас не хватило ни сил, ни времени, ни источников (впрочем, об источниках речь совершенно отдельная). Но мы надеемся воскресить, усилить интерес к более широкой теме, ведь процесс, это собственно говоря, не что иное, как частный случай более широкой темы, темы противостояния представителей демократического социализма и, соответственно, представителей большевистского, тоталитарного социализма, который, пройдя потрясающую эволюцию, взрастил в миллионах людей неприятие даже самого этого слова, а также вырастил из членов Политбюро, секретарей обкомов и райкомов и комсомольцев-аппаратчиков таких хапуг и коррупционеров, что весь мир ужаснулся.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Разговор о том, что необходимо поднять сам уровень публикаторской деятельности и уровень источниковедческой культуры изданий документов по истории ХХ века, возник в 1992 году, причем он начался, когда шло шквальное, ураганное рассекречивание и введение в научный оборот материалов центральных архивов (государственных и ведомственных). Возник феномен, который Виталий Юрьевич Афиани (ныне директор Архива РАН. – прим. ред.), это мой очень хороший знакомый, историк и архивист от Бога, определил как “ксероксная археография”. Это когда исследователь извлекал интересный документ, копировал его и бежал в какой-то журнал или даже в какое-то научное издание и, по сути дела, без минимальной критики этого источника, текстологической работы - тут же пытался выдать это в свет, по сути фиксируя себя, свои приоритеты. Поветрие ксероксной археографии настолько распространилось и заполонило все издания, что документальными научными публикациями стали называть любую сборку типографски оформленных документов. Получилось, что за счет расширения поля источников, резко снизилась культура издательской и научной деятельности. И проект, который генерировал академик Покровский, заключался в том, чтобы не только вводить в оборот новые источники, но делать это грамотно, по тем правилам и канонам, которые вообще существуют в научной среде. И с этой точки зрения, изданием комплекса документов “Политбюро и церковь”, с которого была начата серия, он, по сути дела, задал планку и для следующего издания, которое мы реализовывали вместе с Константином и с Игорем Чубыкиным. Мы воспроизводили модель предыдущего издания только на новом источниковом комплексе. Наша книга имеет достаточно серьезное аналитическое предисловие. Скажем, у академика Покровского, в его издании, вступительная часть занимала шесть печатных листов. Это по сути небольшая монография, в которой дан четкий и понятный анализ конкретных исторических источников в контексте системы делопроизводства, так, как она сложилась, указаны особенности бытования текстов, рассказано о тех людях, которые их создавали, очерчена психология тех людей, которые отражались в этих источниках. Благодаря этому был задан новый стандарт издания источников. И мы являемся продолжателями этой традиции. К слову, по объему наше предисловие даже несколько превзошло то, что сделал академик Покровский. Мы писали его вместе с Константином, и оно получилось у нас в нынешнем виде около десяти печатных листов.
За предисловием следует основная часть (как мы ее называем) - три тематических дела из архива Политбюро, материалы партийного делопроизводства, отразившие подготовку, сам процесс и последствия процесса. Документы расположены в хронологии. Фактически, события прослежены где-то до 27-го года, до той фазы, когда основные фигуранты этого дела, Донской, Тимофеев и другие, уже режимом были загнаны в ссылки, бесконечно продлеваемые. И для большевиков эта проблема уже исчезла даже на персональном уровне. Партия разгромлена, лидеры изолированы в ссылках и т.д. Объем этих трех тематических дел из архива Политбюро составляет примерно 15 печатных листов.
И следующий очень важный компонент – это приложение к тематическим делам, которые мы уже совершенно произвольно компоновали. Ведь если, публикуя тематические дела, мы обязаны были включить буквально каждый документ, отложившийся в этом деле, то в приложение мы уже могли включать документы по своему выбору, в том числе и из других архивов. И мы включили документы из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), так теперь называется бывший центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма, из Центрального архива ФСБ. Мы включили в приложение и некоторые другие документы из иных тематических дел Президентского архива.
К.Н.МОРОЗОВ. Также были включены материалы из Гуверовского архива и Амстердамского Международного института социальной истории. Причем, из последнего были извлечены подлинники последних слов подсудимых (речь идет о фильмокопиях из Архива ПСР, переданных на хранение в РГАСПИ), переданных заключенными через своих жен и опубликованные за границей в “Революционной России”. Использование этих автографов позволило увидеть все те текстологические изменения, которые не вошли в опубликованный в 1922 году вариант.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. И еще один момент. Есть приложение, в которое включены достаточно разнообразные документы, возникших в связи с процессом, вокруг процесса и т.д. Другими, более традиционными компонентами научного издания, стали корпус комментариев и биографический справочник.
К.Н.МОРОЗОВ. Речь идет о достаточно необычной вещи. Биографические справки занимают порядка десяти печатных листов, и мы старались дать их как можно более объемными по всем мало исследованным, мало известным членам эсеровского движения, сгинувших в лагерях. В создании этих биосправок нам оказал неоценимую помощь НИПЦ “Мемориал”, и в предисловии своей работы мы выражаем благодарность председателю НИПЦ “Мемориал” А.Б.Рогинскому за возможность использования базы данных о репрессированных социалистах, а также за ценные советы – сотрудникам НИПЦ И.Осиповой, И.Заикиной, Я.Леонтьеву, которые дали возможность воспользоваться информацией о судьбах, о прохождении через череду лагерей. Надо сказать, что информация, которая содержалась в базе данных “Мемориала”, дополняла ту информацию, которую находили мы. И в результате по целому ряду людей мы далеко продвинулись вперед и на сегодняшний уровень имеем довольно много информации об очень важных и значимых фигурах.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Пропорции книги достаточно жестко были смещены в пользу неопубликованных материалов, хотя мы не могли обойтись в ряде случаев без того, чтобы не републиковать уже известные (опубликованные за границей) последние слова обвиняемых, особенно лидеров эсэровской партии и активистов, которые играли на процессе ключевую роль. В нашем распоряжении были подлинники, написанные подсудимыми от руки, с которыми они выходили и говорили последние слова. Последнее слово каждый готовит в камере, и он тщательно прописывает каждую строчку. А потом он выходит и говорит и может уже отвлекаться, импровизировать, волноваться, или его перебивали, или он отвечал на те или иные реплики Бухарина, Луначарского, вступал с ними в полемику по ходу дела. Нам удалось внести новый элемент даже в републикуемые тексты.
И есть некоторый итог, то, что зафиксировала стенограмма, когда они уже на самом процессе вышли, и это уже было, действительно, их последнее слово. И мы, действительно, с тремя вариантами текстов работали. Это уже источниковедческая работа, наша технология, к которой мы прибегали, чтобы не заниматься голой перепечаткой каких-то уже известных вещей.
Зафиксированы ли при сличении стенограмм, опубликованных материалов, которые попали за границу и рукописных материалов, зафиксированы ли моменты фальсификации последних слов?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Подсудимые, лидеры эсеров, передавали свои тексты, потом редакция, скажем, “Революционной России” могла их редактировать. Я бы сказал, прибегали к скромному редактированию, как всегда редактируется любое печатное издание. Но есть и официальная стенограмма самого процесса, практически дословная, за исключением тех моментов, когда человек отвлекался и вступал в полемику с председателем суда Крыленко, бросал реплику Бухарину. Этой вещи не могло быть в заготовке подсудимого, а в стенограмме она существует, и стенограмма очень сильно дополняет эти тексты. Кстати, при сличении последних слов с текстом официальной стенограммы отличий, которые свидетельствовали бы о преднамеренной фальсификации, нами обнаружено не было.
К.Н.МОРОЗОВ. Это относится ко всем стенограммам процесса. Они полностью адекватны всему тому, что произносилось. Фиксировали стенографисты, затем печатали, затем по одному экземпляру давали защитникам подсудимых и самим подсудимым. Мы можем говорить о высокой достоверности этих стенограмм и использование этих стенограмм последних слов (в приложениях) в нашем издании важно еще и потому, что опубликовано в “Революционной России” лишь только двенадцать последних слов. И защитительные речи. Там было три защитительные речи. Мы использовали в примечании последние слова десяти подсудимых, которые в советское время ни в стране, ни за границей не были использованы. Мы фактически впервые вводим их в научный оборот с минимальными изъятиями.
Мы в примечаниях все защитительные речи и все последние слова 22-х подсудимых первой группы опубликовали с некоторыми купюрами, но это было связано с определенными обязательствами, которые мы на себя взяли перед руководством архива ФСБ. У нас была такая жесткая договоренность, что мы используем в своем сборнике документов для публикации не более десяти-двадцати документов. Дело в том, что параллельно с нами шел и идет сборник документов, который в Казани готовит А.Л.Литвин, имеющий договоренность и “зеленую улицу” со стороны архива ФСБ. Нам пришлось разговаривать с Литвиным и с руководством архива ФСБ. И в результате ограничений, которые мы на себя взяли, чтобы получить допуск к материалам бесценнейшего архива, содержащего десятки тысяч документов, мы получили разрешение только использовать эти документы в пересказе в предисловии и в примечаниях с небольшим цитированием. В результате это наложило отпечаток на нашу работу в том плане, что мы не выдерживаем академизма, не выдерживаем принятые формы, принятые стандарты, стараясь использовать как можно больше ценнейшей, практически неизвестной информации в предисловии. То, что наше предисловие разрослось до десяти печатных листов и основано именно на материалах ФСБ и только во вторую очередь использует те документы, которые находятся во самом сборнике, это, конечно, весьма необычно, всегда это бывает строго наоборот, но, с другой стороны, мы не могли позволить себе не использовать ценнейший материал. Будет ли он введен в научный оборот в полном объеме в ближайшие годы или нет, мне было непонятно. И поэтому я переписывал от руки сотни и сотни документов, которые фактически и дали в объеме примерно восемь из девяти печатных листов предисловия, написанных мной. Более того, огромная часть переписанного мною материала из дел “тюремного противостояния” осужденных и властей в 1922-1926 годах в предисловие вошла лишь в крошечных цитатах. Получилось так, что на момент сдачи рукописи в издательство “тюремное противостояние”, где обильно цитировались заявления и протесты подсудимых, документы чекистов и их тюремщиков составляло около 5 п.л., а все остальные сюжеты предисловия – чуть более 8,5 п.л. Подобный флюс одного сюжета, да еще при том, что мы и так перебрали серьезно объем сборника, о котором договаривались ранее, привел к тому, что пришлось из 5 п.л. оставить только – 1,5. Но после того, как мы сдали рукопись, ко мне в руки попал массив документов, раскрывающий подробности уникальной “развезенной” групповой голодовки октября 1925 г., давшие мне дополнительно около 3 п.л. Конечно же, я опубликую все эти материалы отдельно, их нельзя не опубликовать.
Д.ЗУБАРЕВ (старший научный сотрудник НИПЦ “Мемориал”). Я здесь присутствую в журналистской команде, а не в команде авторов. Хотя, о том, что было сказано ей, самого высокого мнения.
Я бы хотел сказать о том, что здесь еще не прозвучало. Сюжет этот в отличие от многих других сенсационных сюжетов и публикаций последних лет отнюдь не относится к теме совсем уж неизвестных советской историографии. Процесс правых эсеров 1922 года был процессом открытым. Обвинительное заключение и приговор были опубликованы достаточно широким тиражом, никогда не были засекречены и всегда оставались теми документами, на которые советские историки любили ссылаться. Этот процесс был показательным. Публично, при всем народе, с присутствием общественности, адвокатов, выбранных подсудимыми, даже крупнейших специалистов западных, которые приехали их защищать. В течение двух месяцев вся страна ежедневно по газетам следила за ходом процесса. Подсудимые увиливали, и, тем не менее, часть из них, и те, которые были членами эсэровской партии, раскаявшимися в своих “подлых преступлениях”, уличали бывших своих товарищей, и прокуроры, и судьи на глазах у пролетарской общественности, на глазах у стотысячных демонстраций, которые ежедневно подходили к Колонному залу Дома Союзов со своими требованиями. Партия была посажена на скамью подсудимых, и ей был вынесен приговор. Приговор не только конкретным деятелям, но и приговор партии как таковой. Этот процесс, действительно, был во многом основополагающим, хотя первым он не был, был процесс тактического центра в 1920 году, на котором тоже некоторые подсудимые признавались и который тоже имел показательный характер. Но он был показательным вот в каком качестве. Здесь уже прозвучали слова Шаламова, который сказал, что этот процесс был последним, с которого подсудимые уходили с гордо поднятой головой. Он это сказал в 1966 году, когда с перерывом в 44 года состоялся второй процесс, который тоже был задуман как показательный и на котором подсудимые не признали себя виновными. Процесс Синявского и Даниэля. Шаламов подчеркивал, что за 44 года такого не было, некая историческая пауза наступила. После этого уже все подсудимые, начиная с Савинковского процесса, который был в августе 1924 года, во всяком случае, подавляющее число подсудимых полностью признавали себя виновными и сотрудничали со следствием. А этот процесс, на котором люди отказывались каяться, вставать на колени и боролись, гордо провозглашая свое политическое инакомыслие по отношению к правящей партии, тем не менее, преступными эти свои действия и поступки не признавали. Вот значение этого процесса.
В связи с этим мне бы хотелось поднять такой вопрос. В газетах печатались так называемые стенограммы, отчеты о заседаниях суда. Они, когда я в 1991 году получил доступ к ГАРФ, который тогда назывался ЦГАОР, и взял опись Верховного суда, то я с удивлением увидел, что там несколько десятков дел со стенограммой этого процесса. И вот я бы хотел спросить, в каком соотношения находится стенограмма, которая имеется в ЦГАОР и была доступна читателям этого архива, и стенограмма, которой вы пользовались по архиву ФСБ.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Вопрос относится к разряду источниковедческих, потому я могу подтвердить, что краткое изложение хода самого процесса в печати, это было ежедневным достоянием газет того времени. Как только процесс начался, с 8 июня, и до 4 августа, когда закончились прения сторон и наступила пауза, практически каждый день “Правда” и “Известия” публиковали некоторую выжимку из тех событий, которые происходили на самом процессе. В этом плане, если мы возьмем за основу костяк того, что публиковалось в газетах, то событийная сторона, она воспроизводилась верно, потому что нельзя было, если выступали 10 человек в какой-то день, в таком-то порядке и обменивались такими-то репликами, нарушать последовательность. Газеты это прекрасно понимали. Однако совершенно очевидно, что то, что в сокращенном изложении тиражировалось “Известиями” и “Правдой”, проходило очень жесткий фильтр идеологической цензуры, потому что специально для этого процесса было создано бюро печати, которое возглавлял известный журналист 20-30-х гг. Михаил Кольцов. И на этот орган, бюро печати, возлагалась ответственность подготовки выжимки из реальных стенограмм. Скорее всего, реальные стенограммы проходили тоже определенный технологический цикл. Если все четко расписывать по стадиям, когда несколько стенографисток должны были все это фиксировать, то потом требовалось, как минимум, день или два, чтобы они это все распечатали и показали председателю суда Пятакову, и секретарю суда, которые должны были поставить свои заверительные подписи.
К.Н.МОРОЗОВ. Что касается качества сообщений, публиковавшихся в прессе, то этот механизм совершенствовался. В первые дни и в первые недели картина еще не была такой благостной, и этот механизм был совсем не отработан. В частности, в материалах книги публикуется письмо Троцкого, где он ругает советскую печать за крикливо-ругательный тон, который только играет против восприятия, он требует большего объективизма, он требует более точного пересказа событий. В сборнике содержатся еще и отдельные инструкции, где мы находим отдельные инструкции агитационной тройки, еще одной комиссии по процессу. Ведь было создано огромнейшее количество всевозможных комиссий, в том числе, и в недрах ГПУ, и в Политбюро из членов Политбюро, было вообще отвлечено огромное количество сил, и эсеры ехидно отмечали, что “можно подумать, что в стране нет больше никаких более важных проблем, чем организация этого процесса”. По тому, какие силы и колоссальные средства были брошены, это очень похоже на правду.
Агитационная комиссия делала выговоры, приводя вполне конкретные газетные сводки, как перевирали они сообщения подсудимых, как приписывали им то, что ими не говорилось, и требовали соблюдения большей объективности, чтобы не было каких-то явных противоречий. Мы можем говорить о том, что при газетном освещении процесса, как правило, явного искажения, фальсификации не было. Просто были фигуры умолчания. Все то яркое, значимое, важное, что звучало на процессе из уст подсудимых первой группы, которые боролись с большевиками и аргументированно доказывали свою позицию, просто выкидывалось или давалось в пересказе “принижавшем” весь пафос выступления.
Достаточно один пример привести, это тоже отражено в сборнике документов. Из яркого последнего слова Утгофа, который являлся сыном жандармского генерала, в газетном сообщении на первое место было поставлено, что Утгоф долго и нудно рассказывал о том, почему он, сын жандармского генерала, пошел в революцию. И совершенно не освещались поведенческие мотивы, почему эти люди продолжают до конца бороться с якобы пролетарской властью, с властью народа. А ведь то, что сказал Утгоф, не что иное как его кредо, ключ, раскрывающий понимание его поведения, ярко рисующий его ментальность. То же самое можно сказать про все последние слова других подсудимых. Тут мы можем четко сказать, что несмотря на то, что советская пресса пыталась соблюдать некий флер объективности, тем не менее, ничего идеологически вредного и действенного, что могло бы повлиять на читателя, они не пропускали. Вот только в этом смысле мы и можем говорить о жесткой фильтрации и фальсификации материала.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Относительно стенограмм. Мы установили, что в центральной печати появлялась через несколько фильтров пройденная информация, которая, действительно, излагала канву событий и в нужном направлении давала интерпретацию, либо совсем замалчивая часть выступлений или той информации, которая звучала на процессе, либо давая ее таким образом, чтобы она звучала как некоторая нейтральность. Тем не менее, все-таки информацию о ходе процесса из газет можно было почерпнуть. Это первое.
Теперь возникает вопрос, насколько представительны или насколько для историков могли быть вовлечены в оборот те доступные им стенограммы из Государственного архива Российской Федерации, которые хранятся в фонде под названием 1005, Фонд Верховного суда, а ранее Верховного трибунала. Там, действительно, сохранилось порядка 30 с лишним единиц хранения, которые состоят из копий очень плохих, слепых копий с основного экземпляра, того, который остался в архиве ФСБ. Они практически не читаемы. И кроме того, это своего рода мешанина, потому что это не упорядоченное делопроизводство, даже сами копии находятся в некотором хаотическом порядке. Иногда даже не понятно, как в одно и то же дело могли быть включены фрагменты из разных дней. В этом плане пользоваться стенограммами, пусть и доступными для исследователей в ГАРФе, было невозможно, потому что они были неполные, и они очень хаотично сформированы. С этой точки зрения нельзя восстановить целиком по ним ход суда.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы только добавил, что материалы там заканчиваются 20-ми числами июля. Там, в этих копиях, нет кульминации процесса, там нет защитительных речей, там нет последних слов подсудимых обеих групп. Эти копии, и мало того, что они мало читабельны, может быть, они составляют треть или четверть всего объема. И такие провалы в разбивку с несколькими днями, что составить полное представление практически невозможно.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Для историка, для архивиста очень важно, существуют ли вообще какие-то подписи, выверялась ли эта стенограмма, есть ли какие-то заверительные подписи. Когда я просматривал весь этот объем ГАРФовских дел, я обратил внимание, что там могли быть заверительные подписи секретаря, но Пятаковской там нет ни одной подписи как председателя суда. Но иногда в некоторых делах мелькает подпись секретаря Верховного трибунала, в данном случае, Быкова. И можно назвать из 30 с лишним дел пять или шесть дел, где Быковская заверительная подпись существует. Это означает, что, действительно, этот комплекс не выверен был даже с точки зрения источниковедческой, это часть фрагментов большого делопроизводства, которое лишь частично оказалось сохранено в фондах Верховного трибунала. Самое главное – первый экземпляр, где есть подпись Пятакова, стенограммы каждого дня, есть его роспись, есть роспись секретаря суда. Это оказалось в архиве ФСБ.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы еще хотел ответить на то, что прозвучало в вопросе Дмитрия Исаевича, что данный процесс хорошо известен. Это действительно так. Но фокус заключается в том, что материалы нашего сборника и те материалы, которые мы используем в предисловии из архива ФСБ, они используют информацию, не известную широкой публике, информацию, которая позволяет поглядеть на изнаночную сторону многих, казалось бы, хорошо известных событий. И это порой заставляет менять наше привычное отношение к общеизвестным истинам, к общеизвестным вещам. Здесь происходит серьезная переоценка, серьезное переосмысление. Это можно отнести к очень многим важным явлениям, связанным и с подготовкой процесса, и с участием Политбюро, ГПУ, фальсификацией.
Д.ЗУБАРЕВ. У меня читательский вопрос, который меня остро интересует. С самого первого дня процесса, когда было оглашено обвинительное заключение и стало ясно, в чем обвиняют руководителей ПСР: никак не менее, как в попытке государственных переворотов, в терроре, в том числе, в покушении на Ленина, стало ясно, что их хотят казнить. С одной стороны, волна возмущения во всем мире, с другой стороны, стотысячные демонстрации трудящихся Москвы и других городов, которые, тогда формулировки еще не было “расстрелять как бешеных псов”, но что-то подобное звучало. Вот у меня вопрос такой. А на самом деле планировали расстрел, или это зависело от поведения подсудимых? Или заранее было известно, что никого не расстреляют?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я попробую ответить. Дело в том, что большевистские лидеры, затевая этот процесс, были вовлечены в две вещи, очень важные для них, с выходом на международную арену. Это был канун Генуэзской конференции. И второе. Весной 1922 года намечался объединительный конгресс трех Интернационалов – второго, двух с половинного и третьего. И когда большевики объявили о начале процесса, то сразу социалисты зарубежные попытались обговорить итог этого процесса, не применение смертной казни к кому-либо из тех, кто будет выведен на процесс. Поэтому когда в Берлине состоялась конференция трех Интернационалов, представителям третьего Интернационала Бухарину, Радеку и Цеткин были четко сформулированы представителями других европейских интернационалов требования, что мы, мол, согласны разговаривать с вами, и в том числе, если процесс будет открытым, с участием представителей международных социалистических организаций и к подсудимым не будет применено смертной казни. Бухарин, Радек и Цеткин вынуждены были согласиться, хотя бы даже формально, на то, что принимаются условия, что процесс будет открытым и смертная казнь не будет применена. Естественно, большевики воспользовались тем, что третий Коминтерн не был государственной организацией, и тут же буквально Ленин, совершенно взбешенный тем, что процесс не начался, а уже будто бы ограничен рамками каких-то международных договоренностей, он сразу потребовал, чтобы договоренности в Берлине трех международных Интернационалов не предрешали вопрос, чем закончится процесс.
Начиная с апреля, когда Радек и Бухарин сказали “а”, до 7 августа, когда уже был оглашен приговор, по которому 12 человек приговаривались к смертной казни, приговор был отложен исполнением на неопределенный срок, и были условия высказаны. В течение апреля, мая, июня, июля, августа – практически в течение полугода, этот вопрос постоянно всплывал и обсуждался на самых различных уровнях. На уровне руководства Коминтерна, которое боялось потерять лицо, потому что уже сказало “а”, на уровне Политбюро, в котором боролось несколько разных мнений, в том числе, жесткое, которое представляли Троцкий и Сталин, считавшие, что в показательных политических целях, если мы такой процесс раздули и его развернули в таких гигантских масштабах, то мы должны показательно расстрелять. Тем более, опыт подобного рода решений был. Перед этим проходило несколько “церковных” процессов, и там расстреляли двух человек по одному процессу, четырех человек по другому процессу. И там тоже внутри Политбюро шла борьба. Калинин просил помиловать и назначить другие сроки наказания, а Троцкий и некоторые другие совершенно жестко настаивали. И мог быть в этом процессе церковный “вариант”, когда на одном из решающих заседаний между 4 августа и 7 августа, точной даты мы не смогли установить, потому что ее не было на секретном решении, состоялось заседание Политбюро, на котором прямо поставили вопрос о том, будем ли мы расстреливать какую-то часть обвиняемых или нет. Тогда Троцкий предложил расстрелять четырех человек, фамилии не названы, и большинство Политбюро поддержало Троцкого. А дальше уже нужно было решать, согласовывать с председателем суда и т.д. Но, тем не менее, решение Политбюро о том, чтобы четырех человек расстрелять, оно было проведено. Однако председателем комиссии Политбюро по наблюдениям за всеми процессами был Лев Борисович Каменев, который был человеком умеренным. Кстати, и в случае с церковниками он занимал достаточно осторожную позицию, потому что он был еще и государственный, публичный деятель. Например, в этом случае жесткая позиция Троцкого или Молотова, или Сталина была понятна, это были функционеры партийного аппарата, они не были публичными политиками. Троцкий был наркомом обороны, председателем Реввоенсовета. А Калинин был председателем ВЦИК. Каменев был заместителем председателя СНК и одновременно он был председателем Моссовета. Это были публичные политики, поэтому они прекрасно понимали, что за любое решение такого рода, если они проголосуют, они должны отвечать непосредственно перед какой-то частью общественного мнения в мире, в стране и т.д. В этом смысле Каменев пошел против течения и предложил вынести решение на более широкую аудиторию с участием членов ЦК на уровне пленума. И даже в этом расширенном составе пленум все равно как будто бы поддержал Троцкого, и они все-таки почувствовали, что нужен согласительный момент какой-то. И вот они нашли каучуковую формулу – приговорить к расстрелу, но отложить исполнение. Компромисс между Троцким и Каменевым, который был найден в течение нескольких дней в лихорадочном согласовании позиций – вот один из ключевых моментов, и мы его четко прописываем в документах.
Вопрос в развитие этой темы. А впервые тема казни когда прозвучала? Именно тогда, на пленуме, или предрешенность казни есть в документах Политбюро?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. На мой взгляд, ситуация складывалась такими образом. Процесс еще не начался, но борьба вокруг будущего приговора все время шла. И мы отразили в документальной форме: июнь – процесс идет, июль – процесс продолжается, и периодически на Политбюро возникает вопрос, какой должна быть формула приговора. И судя по всему, большевистское руководство так и не пришло к единому мнению, о котором я и говорил, потому что одна из группировок, ее возглавлял, скажем, Зиновьев и Каменев. Зиновьев уже не мог голосовать против смертного приговора, потому что он был председателем Коминтерна. И так далее. Вот этот вопрос о формуле приговора, он и показывает, насколько может быть интересной и важной та часть секретного делопроизводства, которая все расставляет на свои места.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы здесь добавил, что жесткая линия части Политбюро, в частности, Ленина, Троцкого, Сталина на смертный приговор хотя бы части подсудимых, они удивительным образом связаны с одной из причин проведения этого процесса. Дело в том, что 22-й год, это второй год НЭПа, это время, когда и в стране, и за рубежом, люди разной политической ориентации: от меньшевиков до “сменовеховцев”, и даже в самой в большевистской партии, по крайней мере в некоторых кругах ее, ждали, что вслед за экономическими реформами последует и политическая эволюция режима. И этот процесс, направленный против социалистов, должен был продемонстрировать, что никакого ослабления режима нет и не будет. Это был сигнал как для врагов, так и для друзей. Более того, относительно мягкое отношение большевиков к своим прежним товарищам по революции, эсерам, меньшевикам, анархистам, с которыми их связывала общая революционная борьба, связывали ссылки, каторги, она проявлялась в это время еще в довольно ярких формах. Известно огромное количество ходатайств в то же самое ВЧК и ГПУ за различных своих приятелей и знакомых эсеров, меньшевиков, анархистов, то давление, которое оказывали на чекистов, довольно крупное, большевистские деятели, включая Калинина, Рыкова, Каменева, Зиновьева и многих других. Что там говорить, даже сам Крыленко, который снискал себе славу безжалостного гонителя всех и вся, сам, тем не менее, как это видно из воспоминаний Бабиной, отпустил на свободу ее мужа, с которым он был знаком в 1909 году и сохранил, по ее словам, как он ей сказал, самые лучшие и теплые воспоминания. Самое любопытное, что Бабин проходил по списку обвиняемых и был включен в число обвиняемых, но потом его дело было выведено в ряд периферийных дел, что позволило не выводить его на процесс. А потом, в декабре 1922 года он его отпустил, только потребовав от Бабиной устного заявления, что они не занимаются и не будут заниматься борьбой с советской властью, которое она ему тут же и дала, после чего, через несколько дней ее муж вышел на свободу. Любопытно, что в одном из документов 1921 г. чекисты, жалуясь в Политбюро на давление высокопоставленных большевиков, вроде Калинина, привели аргумент о том, что это же несправедливо, когда одни меньшевики и эсеры продолжают сидеть в тюрьме, порой за не очень серьезные грехи, а других, порой куда более опасных, приходится выпускать на волю, потому что у них нашлись заступники-большевики. Читать это было и смешно и грустно - чекисты в роли защитников прав политзаключенных от “телефонного права” и борцов за равноправие всех их перед карающим их мечом то ли закона, то ли беззакония.
Мы можем здесь сказать, что одна из причин, по которой Ленин, Сталин и Троцкий пошли на этот процесс, а потом требовали смертного приговора, это желание перейти Рубикон в отношениях с социалистами, оставить “мягких” из своей собственной среды, типа Каменева, Калинина, Зиновьева, Рыкова и прочих без возможности выбора. То есть, то же самое фактически Ленин и Троцкий сделали поздней осенью – зимой 1917 года, когда толкали ситуацию к обострению отношений, в то время, когда Зиновьев и Каменев пытались договориться с Викжелем, пытались договориться с эсерами и меньшевиками о коалиционном правительстве, Троцкий и Ленин делали все, чтобы провести эскалацию насилия и оставить “мягких” без выбора, без вариантов.
То же самое, на мой взгляд, происходило и в 1922 году. И процесс над эсерами 1922 года, и расстрел хотя бы одного-двух- трех человек, он совершенно четко закрыл бы абсолютно все возможности для тех же “мягких” большевиков для какого-либо сотрудничества с меньшевиками и эсерами и в будущем. Здесь разговор шел не только о том, более мягкий человек Зиновьев или более жесткий человек Троцкий, речь шла о совершенно четком политическом контексте. Можно не сомневаться, что после планируемого Лениным, Сталиным и Троцким показательного расстрела четырех эсеров-цекистов, для эсеров (в какой-то степени и для меньшевиков) и тот и другой стали бы “осетриной второй свежести”, т.е. заклятыми врагами, с которыми следует не разговаривать, а уничтожать.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я бы еще добавил. Этой вещи в сборнике нет, но представьте себе самое громкое убийство 1927 года, с которого началось обострение наших отношений с Польшей, Англией и т.д., это Войков. Почему Войков пал жертвой этого теракта? Потому что он участвовал в расстреле царской семьи. Почему ряд дипломатов, действительно, опасались за свою жизнь, те, кто так или иначе могли фигурировать в такого рода громких убийствах того времени. А теперь представьте себе ситуацию. Практически жесткую позицию одновременно занимали те люди, которые никогда не были выездными. Троцкий не бывал за границей после революции, не бывал за границей Молотов, не бывал за границей Ленин из-за своей болезни и т.д. Но кто выезжал за границу? Рыков постоянно выезжал на лечение, Чичерин постоянно был за границей, Зиновьев тоже был за границей. В этом плане, как это ни парадоксально, или, наоборот, как это понятно, почему люди в какой-то момент могли думать о том, что их ждет за границей, потому что я не сомневаюсь, если бы был приговор расстрельного типа, хотя бы часть лидеров эсеров была бы расстреляна, я сомневаюсь, что Рыков смог бы лечиться на германских курортах в течение месяца или полутора, тогда нужно было бы создавать жесточайшую охрану по отношению к нему. Или Бухарин, который периодически лечился за границей, его отправлял ЦК на деньги государства. В этом плане для части большевиков решение о более мягком приговоре, оно проецировалось на их жизненные планы или дальнейшие периодические лечения Рыкова, Бухарина и некоторых других за границей было бы просто невозможно. И Чичерин, как нарком иностранных дел вряд ли смог бы быть обеспечен охраной.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы только добавил, что террор эсеровский явно бы перешагнул границы России и жизнь большевистских лидеров подвергалась бы опасности не только за рубежом, но и внутри страны. Мы без всякого сомнения можем говорить, что в это время у эсеров было еще достаточно много возможностей для организации такой достаточно серьезной террористической кампании. Но парализовало все эти возможности то разномыслие, та идейная разнонаправленность, которая в это время в эсеровской среде была. Ведь немало эсеров все еще верили в возможность союза с большевиками для того, чтобы делать общее дело, строительство социализма. Такие настроения были очень сильны. И если вспомнить о той же самой Бабиной, она, несмотря на то, что содержалась в тюрьме, она эти взгляды разделяла. И многие другие вслед за ней считали преждевременным и невозможным вновь говорить о борьбе, прежде всего, вооруженной борьбе, тем более, террористической борьбе. Если бы большевики перешли Рубикон, расстреляв нескольких эсеров, для огромного количества эсеров в стране, в том числе и молодых эсеров, это было бы возможностью расстаться с неопределенностью, с сомнениями. И мы могли бы говорить точно, что это имело бы очень серьезное значение и для самоорганизации эсэровской партии, и для перехода ее к решительным действиям. Тут два момента следует отметить.
Первый момент, как это ни парадоксально, этот факт мало известен, и мы только краешком сумели его зацепить, мы чувствовали, видели след этих событий, но в сегодняшней беседе А.Б. Рогинский, прочесав значительные массивы документов 22-24 гг. со всей определенностью говорил, что процесс над эсерами 22-го года вызвал мощную реакцию возрождения эсерства, реакцию интереса молодежи к ПСР. Целый ряд людей, прежде всего, студенческая молодежь, пошла в эсеровское движение. 23-24 годы – это пик интереса к эсерству, так что с этой точки зрения процесс имел совершенно неожидаемое большевиками значение. Такое же, если не большее значение, могла бы сыграть и вызвать обратную реакцию и казнь четырех эсеров. Надо сказать, что из агентурных материалов, которые чекисты получали о разговорах заграничного руководства эсеровской партии, интересно одно суждение, вскользь брошенное в одной из бесед Черновым, - это его ожидание от процесса, который он сравнивал с 9 января 1905 года, с “кровавым воскресеньем”, он ожидал, что процесс сможет сыграть роль катализатора процесса брожения в стране. Процесс такой роли не сыграл, но казнь вполне могла сыграть.
А самого процесса и всего, что с этим связано, недостаточно? Вы считаете, что только расстрел мог бы активизировать?
К.Н.МОРОЗОВ. Следует оговориться, что говоря в сослагательном наклонении, можно впасть в чрезмерные преувеличение. Вообще, предсказывать будущее – дело неблагодарное. Известно огромное количество не сбывшихся прогнозов. И, наоборот, мало известны те прогнозы долгосрочные, которые были бы адекватны. С этой точки зрения, рассматривать один из возможных вариантов следует очень и очень осторожно. И можно говорить, что это бы точно имело некоторое влияние на те процессы, которые происходили в эсеровской партии, на ее активизацию и, возможно, действия эсеров (в том числе, и террор против большевистских руководителей) повлияли на ход событий, но, конечно, было бы очень опрометчиво утверждать, что они бы привели за собой падение большевистского режима и т.д., уж слишком длинная цепочка событий, могущих или не могущих возникнуть в режиме “сослагательного наклонения”.
Хотелось бы еще отметить только два сюжета из тех, которые мы освещаем, и которые ранее были практически неизвестны. В частности, речь идет о том, что анализ многих документов, сотен документов из архива ФСБ дал возможность воссоздать, хотя бы в основных чертах, героическую борьбу осужденных эсеров в 1922-1926 гг. Эта страница практически неизвестна, все документы остались под спудом. До нас дошла лишь смутная информация о самоубийстве в конце 1923 года Сергея Морозова, но совершенно осталась неизвестной попытка самоубийства Елены Ивановой в 1926 году. Нам были известны те цифры, которые назвал Гоц в письме, опубликованном за границей, о том, что за два года борьбы они голодали в общей сумме 365 дней, но не были известны подробности. Используемые документы позволяют проследить шаг за шагом тот режим, которые чекисты создали, написав инструкцию для “особо изолированных” в августе 1922 года. Этот жесткий тюремный режим, который сами эсеры называли “карцерным содержанием каторжного централа”, этот режим под давлением и самих заключенных и под воздействием общественного мнения, прежде всего социалистических и демократических кругов Запада, шаг за шагом ломался, ослаблялся и в конце концов был сломлен эсерами, которые проявили свою способность не только к мужественным поступкам и действиям в ходе следствия, кратковременным, все-таки, в ходе следствия весной и летом 1922 года, но и на протяжении ряда лет, и всей своей последующей жизни, когда они шли до конца, отстаивая свои идеи. С этой точки зрения, самоубийство Морозова, чье письмо предсмертное впервые публикуется, очень показательно. Он пишет о том, что “у меня нет сил больше бороться, поэтому я ухожу из жизни”.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я бы хотел обратить внимание на то, что мы так вышли на еще один практически неизвестный сюжет, это то, как большевики пытались использовать уже после процесса тот определенного рода капитал, как они его считали, для того, чтобы, используя различного рода комбинации, пытаться заигрывать с левыми кругами зарубежных стран, социалистами во Франции, лейбористами в Великобритании. Мы впервые вводим в научный оборот переговоры, которые Коминтерн пытался организовать в смысле обмена одного из смертников, знаменитого эсеровского цекиста Евгения Тимофеева на не менее известного германского революционера Макса Гельца, который в это время являлся также пожизненным заключенным в Германии. И делалась попытка в ходе многоходовой комбинации обменять Макса Гельца на Тимофеева или Тимофеева на Гельца. А далее в документах есть другие сюжеты, которые показывают то, как какие-то ослабления по отношению к заключенным, уже находившимся в ссылке, скажем, Гоцу, Тимофееву, другим, использовались как средства установления для возможного установления более хороших отношений, скажем, с французскими социалистами, с лейбористами, с левыми кругами западных стран. После суда большевики использовали людей, находившихся под стопроцентным контролем, как разменную монету для улучшения своих собственных позиций на международной арене, делая уступки в послаблении режима, пребывания в тюрьме, ссылке и т.д., они пытались смягчить давление, мнение, которое формировалось о них на Западе.
Удавалось?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Думаю, что нет. Это была иллюзия, что такого рода маневрами можно улучшить свой имидж за рубежом. Но они пытались.
К.Н.МОРОЗОВ. Здесь была обратная сторона, потому что, скажем, французские и английские социалисты очень умело использовали давление на советских дипломатов, организуя и протесты, организуя и запросы социалистов-депутатов в газетах, организуя открытые письма советским дипломатам в 1923-1926 гг., придавая гласности борьбу заключенных эсеров в тюрьмах, в лагере. И с этой точки зрения, важно и интересно, что целый ряд советских дипломатов обращался в Политбюро с просьбами о смягчении содержания, даже предлагали выпустить видных цекистов – Гоца и Тимофеева. Скажем, советский полпред в Великобритании в 1926 году этого требовал, и у него были на это веские основания. Из шифровок видно, как и его самого, и его парижского коллегу буквально загнали в угол влиятельнейшие французские социалисты и английские лейбористы. И последнее, что нужно сказать, что парадокс заключается в том, что за смягчение режима и даже за возможное освобождение осужденных по процессу стали выступать наркомат иностранных дел и ОГПУ, была создана комиссия, в которую входили члены наркомата иностранных дел вместе с чекистами. Чекисты настолько устали получать неприятности от эсеров с их голодовками, борьбой и скандалами международными, что в 1924 году стали сами ходатайствовать перед Политбюро о том, чтобы выслать 1 500 социалистов и анархистов, содержавшихся в тюрьмах за границу (впрочем, кроме членов ЦК).
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Здесь речь шла о другом. В 1924 году, в момент, когда готовилась полоса признаний, и большевики понимали, что вот-вот их признает целая серия стран, действительно, была создана комиссия, куда входили деятели Политбюро, туда входил Чичерин, Лозовский и Менжинский. Лозовский представлял международный интернационал профсоюзов, Чичерин представлял наркомат иностранных дел, а Менжинский свое ведомство – ОГПУ. Они разработали очень интересное предложение, которое даже обсуждалось. Смысл сводился к тому, что, поскольку за границей идет кампания против преследований в отношении социалистов, эсеров, меньшевиков, анархистов и т.д., то не лучше ли сделать таким образом. Как философский пароход организовали в 1922 году, так же взять и летом 1924 года собрать, посчитали, что почти полторы тысячи активных социалистов находятся в это время в тюрьмах, ссылках и т.д. И комиссия, в которую входили три вот этих функционера, они пришли к согласованному мнению: а что, это было бы неплохо. Полторы тысячи. Если первый раз отправили 163 человека с философским пароходом, то теперь давайте мы эту цифру в 10 раз увеличим и полторы тысячи известных социалистов с семьями отправим. Но ограничение было жесткое. Было сказано, что если и будем отправлять этих полторы тысячи человек, во-первых, туда не будут входить члены ЦК эсеровской партии, они их сразу вывели за скобки и лидеры грузинских меньшевиков, это тоже была в то время очень острая проблема, обсуждаемая за рубежом, вхождение Грузии в состав Советского Союза. Но при этом они предлагали, чтобы все расходы по высылке, по приему и т.д. взяли на себя социалисты тех стран, которые за это дело ратуют.
И второе условие было такое, что в таком случае пусть выпустят адекватное количество революционеров, которые томятся в Польше, в Литве в буржуазных тюрьмах. Хотели бартер.
Г.КУЗОВКИН. Я сейчас прочитал, что, действительно, боролись они за свои права в заключении. Ваше возражение Косте заключалось в том, что не это играло роль в предложении чекистов, а учет международной обстановки.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Учет международной обстановки, и это все-таки не состоялось. Комиссия выработала эти предложения, вошла в Политбюро, а дальше есть очень короткое, сухое решение – предложение комиссии Лозовского, который возглавлял ее, кто-то один их трех должен был возглавлять, отклонить без мотивировки. Я думаю, что здесь роль сыграло то, что момент истины уже прошел. Пока согласования комиссии шли, началась полоса признаний. И вот этот ход, который готовился как пропагандистский, пиаровский, просто необходимость отпала в этом. В итоге это решение не состоялось, хотя оно могло иметь очень интересные последствия.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы хотел просто процитировать кусок письма зампред. ОГПУ Менжинского от 4 августа 1924 года в Политбюро. Менжинский писал: “Чтобы дать коммунистам Запада оружие для агитации против растущего “белого” террора, мы предложили комиссии товарища Лозовского и Чичерина выслать за границу находящихся в лагерях и ссылке меньшевиков, правых и левых эсеров, а также анархистов всех оттенков за исключением причастных к уголовщине, шпионажу и прочее”. Конец цитаты. По мнению ОГПУ, должно было быть точно оговорено, что эта мера не распространяется на центральные комитеты правых и левых эсэров, а также на грузинских меньшевиков, как партии, прибегающей по постановлению своих центров к уголовщине всякого рода. Предложение должно было исходить от Коминтерна и Профинтерна, а не от правительства, и направлено второму Интернационалу, на который лягут все переговоры с правительствами, хлопоты по визам и прочее. Приняты должны были быть все высылаемые без права отводить тех или других лиц, а также их семьи. Детали комиссия не решала до разрешения в Политбюро основного вопроса о высылке за границу указанных категорий.
Власти рассматривали, судя по тому, что вы рассказали нам, этот процесс, как лабораторию, как опыт, вольно или невольно, на будущее. Фактически разрабатывалась технология. Естественно, они какой-то опыт извлекали, и в будущем это применялось. Это первый такого рода открытый процесс, дальше пойдут другие масштабные процессы. Так что из этих документов извлекается в плане чекистской работы, чекистского опыта, который пригодился в будущем?
К.Н.МОРОЗОВ. Материалы предварительного следствия, протоколы и стенограмма судебного слушания, эти очень интересные материалы привели к неожиданным выводам. Для меня, например, явилось крайне неожиданным, что процесс, о котором мы столько знали, который являлся первой пробой пера, делался и конструировался в такой жуткой спешке. Фактически жуткая спешка, жуткий непрофессионализм следователей ГПУ и Верхтриба, жуткий непрофессионализм ведения процесса, он сказывался и проявлялся в многочисленных проколах, которые особенно явно выявились уже на самом судебном слушании.
Начнем с того, что сам список обвиняемых составлялся и менялся многократно. Было большое желание руководства Политбюро осудить всю партию в целом. Потом выяснилось, что судить партию в целом нельзя, как справедливо заявил Крыленко, а нужно судить конкретных лиц. И начались всевозможные перетасовки списка обвиняемых. Все это продолжалось буквально до последних дней перед началом процесса. Часть подсудимых выводили из процесса, амнистируя, заставляя давать соответственно подписки установленного образца для получения амнистии и так далее.
Но главное даже в другом. Главное, что предварительное следствие на своих плечах вынес практически один Агранов (хотя несколько допросов сняли и двое-трое других следователей), проводивший многие сотни допросов, и как он сам писал, следствие длилось всего порядка пяти недель. Поневоле, не выдержав этой нагрузки, не переварив информации, он совершил довольно много ошибок, часто не сведя концов с концами. Это проявилось и в том, что обнаружилась нестыковка в показаниях между обвиняемыми второй группы и свидетелями обвинения, которые на суде шли единым фронтом, было много натяжек, было много прямых фальсификаций, которые потом всплыли на самом процессе.
И самый яркий казус, на что обратили внимание и сами обвиняемые эсеры первой группы, и обратила внимание иностранная защита, то, что были нарушены многочисленные советские законы. В частности, Крыленко, будучи председателем Верхтриба, не мог быть государственным обвинителем. И более того, его жена Елена Розмирович возглавляла все следствие Верхтриба в апреле – мае 1922 г. (которое они провели вслед за ГПУ, забрав дело и подследственных у чекистов), а Пятаков к тому же был и свояком Крыленко (по крайней мере, так утверждал Эимиль Вандервельде, защищавший эсеров 1 группы). И все эти коллизии на Западе пересказал Вандервельде, заявлявший, что ни в одной цивилизованной страны Европы такой картины просто быть не может. Вот были такие несогласованности и кошмарные вещи.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Только два момента. Естественно, мы, насколько это было возможно, попробовали найти исходную точку. И с этой точки зрения, Константин и я, мы видели подлинник того самого дневника, который лег в основу главного документа. То есть главный человек, который дал сведения о готовящихся или состоявшихся покушениях, руководитель боевого отряда Григорий Семенов, он ведь написал брошюру, которая вышла потом несколькими изданиями. Но в основе лежал его дневник, который он подготовил и представил чекистам, а те уже представили его потом на Политбюро. И есть автограф Сталина на последней странице о том, что он прочел этот дневник и надо подумать о форме использования этих материалов, то есть обсудить на Политбюро. В данном случае очевидно, что сам процесс готовился в недрах чекистского ведомства. И Политбюро только воспользовалось плодами этой домашней заготовки, глубинного аппаратного производства, и здесь уже никаких сомнений теперь уже нет.
К.Н.МОРОЗОВ. Сравнение текстов подлинника брошюры Семенова, на котором был автограф Сталина, с опубликованной брошюрой свидетельствует о том, что были только легкие стилистические правки. То есть ни о каком редактировании со стороны Сталина речи не было. Непонятно, конечно, кто выступал заказчиком этой брошюры, это могли быть как чекисты уровня Дзержинского, так и видные члены большевистской партии, которые давали рекомендацию для вступления Семенова в партию. Но, скорее всего, ему были предложены лишь общие рамки и сюжеты, которые в этой брошюре должны были быть отражены. Никакого такого сценария, который писался в чекистских кабинетах, скорее всего, не было.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я думаю, что первая предварительная стадия, которую вел Агранов, она велась без серьезного контроля и вмешательства Политбюро. Только когда политическое решение состоялось о сроках процесса, в каком составе и какие группы выводить, только тогда Политбюро взяло под свой контроль.
Совершенно очевидная вещь, которая за кадром осталась, для чего чекистам нужен был этот крупный, масштабный процесс. Помимо всего прочего, именно в начале февраля произошла коренная реорганизация, и ВЧК было преобразовано в ГПУ с довольно существенным сужением его функций по сравнению с периодом Гражданской войны. Поэтому чекисты были кровно заинтересованы в том, чтобы восстановить объем своих полномочий, в том числе, свое влияние на политическую ситуацию в стране.
Поэтому, если бы этого процесса не было, его надо было придумать в тот момент, когда ГПУ отчаянно боролось в момент своей реорганизации за место под солнцем.
И последний момент, вот этих проколов, о которых говорил Константин, было бы гораздо больше, если бы определенную подчистку за чекистами не производило следствие Верхтриба. Потому что чекисты провели только предварительное следствие, официальное следствие было Верхтриба, которое велось в течение почти месяца до процесса. Оно все-таки сумело какие-то противоречия и шероховатости, нестыковки чекистского делопроизводства и следствия выявить, их как-то сгладить, привести процесс в верхтрибовские границы. Если бы этого еще не было, месяца работы следственных органов Верхтриба, то тогда процесс мог быть еще более хаотическим и неуправляемым. В этом плане на пользу большевистскому процессу пошло противостояние двух следственных систем, которые существовали в ГПУ и которое официальное делопроизводство вело в Верхтрибе. В этом плане характерен конфликт Крыленко с Аграновым, когда Крыленко указал чекистам на их недоработки. И по сути дела они были вынуждены целый месяц посвятить доводке этого процесса. В итоге получилось то, что получилось.
К.Н.МОРОЗОВ. И тем не менее, чтение стенограмм процесса и особенно защитительных речей, в том числе защитительной речи Гендельмана (единственного человека из подсудимых эсеров первой группы, который был юристом по образованию и после ухода с процесса иностранных и отечественных адвокатов, он на себя взял функции адвоката), показывают как бледно выглядели обвинители, как плохо они подготовились, как неожиданно на свет божий полезли нестыковки и швы предварительного следствия. Речи Гендельмана производят очень сильные впечатления, он ловил многие десятки раз обвиняемых первой группы, свидетелей и прокурора на всевозможного рода неточностях, нестыковках, прямых фальсификациях. Нужно сказать, что даже в стенограммах они производит очень сильное убедительное впечатление, а можно представить, какое впечатление они производили “вживую” (правда, в зале почти целиком сидели коммунисты, пришедшие по специальным пропускам). Сильный удар был нанесен, скажем, по образу Григория Семенова – руководителя боевой группы, впоследствии ренегата, получал сильный удар, когда уже на суде выяснялось, что он одного из обвиняемых – Морачевского, притянул в своей брошюре тем, что заявил, что убийца Володарского Сергеев скрывался на квартире этого эсера. А уже на суде вдруг выяснилось, что на самом деле в этой квартире снимал комнату сам Семенов. И в этой комнате он без ведома хозяина держал два дня Сергеева. После того, как на это ему указали, Семенов отвечал: я в отличие от Гендельмана юридического образования не имею и мне не казалось это важным и что это будет иметь какие-то серьезные последствия. Но прозевали-то этот ляп Агранов и Розмирович! И похожих эпизодов было более чем достаточно.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Есть еще важный момент, который свидетельствует, что была за атмосфера, в которой процесс готовился. Дело в том, что чекисты, почувствовав вкус к этому новому для себя творчеству, на самом деле предложили подготовить серию процессов именно весной – летом 1922-го года. И мы с вами знаем только один, который состоялся, но мы с вами не знаем, сколько готовилось. По документам получается, что, как минимум, чекисты предложили целый веер процессов, в которых участвовали бы и другие группы социалистов. Особенно их волновала проблема широкого распространения молодежных организаций меньшевистского толка, РСДРП. Поэтому чекисты предложили параллельно с эсеровским провести процесс лидеров молодых меньшевиков. Этот вопрос даже рассматривался очень серьезно, была создана комиссия, которую возглавлял Бухарин, и эта комиссия в течение примерно недели решала вопрос – вытянет ли вообще вся эта система пропагандистская, политическая, чекистская два таких крупных процесса. И в конечном итоге вынуждены были признаться, что уже один этот процесс, в ходе его подготовки, а дело было весной 22-го года, он уже дает массу таких проблем, с которыми они ранее не сталкивались. Поэтому готовившийся потенциально процесс над молодежным крылом меньшевиков был отодвинут и фактически потом так и не состоялся. Однако, сама по себе чекистская идея готовить веерные процессы, в которых сразу бы убивалось несколько очень важных оппозиционных или потенциальных врагов, они потом попытались реализовать в конце 20-х годов, когда как известно, одновременно готовился и процесс промпартии, и союзного бюро меньшевиков, и трудовой крестьянской партии.
К.Н.МОРОЗОВ. Здесь следовало бы отметить, что не случайно потом к идее проведения процессов над теми же меньшевиками не вернулись, наверное, во многом потому, что итоги процесса были очень противоречивы. Без всякого сомнения, большевики выиграли на пропагандистском, информационном поле. Выбросив огромные средства, использовав огромное количество людей на обработку общественного мнения, они сумели эту проблему решить. Но по многим другим направлениям они, конечно, очень серьезно проиграли. И, прежде всего, они проиграли в глазах общественного мнения за границей. Тот удар, который они получили, угробил практически их имидж. И это хорошо отражено в документах сборника. Этот удар им потом аукался многие десятилетия. Ведь фактически, самое любопытное, что именно в это время, на этом процессе большевики в глазах общественного мирового мнения демократического и сделали себе имидж душителей свободы, прав человека и так далее. До этого очень многие на Западе, даже из социалистов, идеализировали большевистский эксперимент по созданию социалистического строя и не верили тому, что им говорили эсеры и меньшевики о зверствах Чрезвычайки, правовом нигилизме большевиков и т.д. Письма Авксентьева за 1919 г. из Америки и Чернова в 1920 г. из Европы свидетельствовали, как их “не слышали” даже друзья.
С другой стороны, большевики проиграли в глазах интеллигенции и даже многих членов собственной партии, как бы связанных еще революционной традицией, естественно, из старой элиты. И тут интересны “диссидентские” высказывания на партийной конференции того же видного большевика Рязанова, которого Каменев требовал, в общем-то, привлечь к ответственности, когда тот стал говорить о том, для большевиков совершенно не достойно использовать таких людей, как Семенов и Коноплева. Вообще, не прилично для революционеров иметь что-то общее с такими людьми. Каменев просто взвился после этих слов и не говоря ничего по существу, разразился потрясающей митинговой речью, где самое внятное было, что такое же говорят меньшевики и эсеры, а потому Рязанова надо наказать.
И, конечно, нужно сказать, что самое главное, что подсудимые 1-й группы продемонстрировали на суде стойкость, продемонстрировали верность своим идеям. Фактически это даже стало апофеозом своего рода в истории российского революционного движения. Назвать примеров предшествующего поведения на суде (и особенно потом в тюрьме) в условиях беспрецедентной общественной травли, многотысячных митингов, тысяч резолюций собраний рабочих и служащих, требующих расстрела и т.п., очень затруднительно.
Правильно ли я понял Сергея, что политического заказа со стороны партии в изученных вами материалах не найдено?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Политического заказа не было. Был четкий чекистский посыл, потому что предложение о том, чтобы создать комиссию по эсерам, меньшевикам и анархистам, а потом, как вы сами понимаете, готовить серийные процессы, здесь как такового не было найдено, а с предложением выступал Дзержинский. Я думаю, что, скорее всего, вот Константин со мной не согласен, но я думаю, что все-таки в первую очередь здесь играло роль именно стремление чекистов.
К.Н.МОРОЗОВ. Мне представляется, что без политического заказа такой процесс не мог и состояться. Почти наверняка этот заказ был сформулирован или дал его понять сам Ленин, Сталин, Троцкий. Чекисты лишь поняли этот заказ и явились инстанцией, структурой, которая проработала его, реализовала и прочее. Вряд ли они были инициаторами всей этой идеи. Просто система взаимоотношений между руководством партии, элитой, верхушкой и руководством ГПУ все-таки была не такой, чтобы Дзержинский мог принимать подобные решения, навязывать свою волю Ленину.
Г.КУЗОВКИН. Но речь идет тогда об устном, телефонном праве. Но документов вы не нашли?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я почему так и не могу утверждать, как мой коллега, потому что я все-таки являюсь историком более эмпирического характера. Поэтому есть совершенно четкое выступление Дзержинского, есть совершенно четкий документ, который более или менее связан с чекистами, связан с Семеновым. И только тогда он попал на Политбюро, и только тогда уже было принято политическое решение. Но первый импульс мог быть, действительно, аппаратный, потому что, повторяю, это был период, когда ГПУ, то есть ВЧК…
К.Н.МОРОЗОВ. Это нельзя назвать аппаратным.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Это был переход от гражданской войны к какой-то другой эпохе, и с этой точки зрения ту власть, те полномочия, которыми обладала ВЧК в годы гражданской войны, и то, как она действовала и оперировала, это вполне могло быть первым импульсом, которому потом придали политический смысл. Других документов у нас нет в нашем распоряжении. Поэтому ни про телефонное, ни про какое-то другое право я бы не стал говорить.
К.Н.МОРОЗОВ. А я бы отметил, что сама идея преследования, в том числе и судебного преследования социалистов, она хорошо прослеживается в статьях Ленина. Что мы, собственно, придумываем велосипед, достаточно прочитать его статьи конца 21-го года, и идея, о которой он говорит, что политического ослабления нашего режима не будет, и мы покажем это всем и вся, и что нужно ставить гласные и хорошо организованные процессы, вот это вам и есть этот самый политический заказ.
А что касается отсутствия документов, я тоже историк и тоже эмпирик. Беда ведь в том, что говоря о том, что есть в документах, надо не забывать, что далеко не все отложилось, зафиксировано на бумаге, да многое на ней вообще в щекотливых ситуациях не фиксируется, что тогда – что сейчас. Странно же для историка вставать на формальную позицию милиционера, проверяющего паспорт – “без бумажки таракашка, а с бумажкой человек”, так и для историка – есть документ – признаю, нет - не о чем даже говорить. Говорить и думать, реконструировать события, выстраивать версии (но не отрываясь, конечно, при этом от реалий, не впадая в фантазии, как это часто делают публицисты) – разве это не часть профессии историка?
Скажем, в той же аппаратной кухне, в той же кухне членов Политбюро, что там все документально зафиксировано? Да ничего подобного. Там, например, фиксировались только повестки заседаний, а не фиксировалось само содержание. В это трудно поверить, но это факт, не какие-нибудь приватные и кулуарные их беседы не документировались, а не велись стенограммы их докладов, обсуждений, прений. Даже до революции, когда те же эсеры в эмиграции экономили деньги на всем и стенограмм заседаний ЗД ЦК практически нет, они всегда давали краткий пересказ выступлений и прений. А как же иначе? А если, через полгода-год понадобится уточнить, кто какую позицию в том или ином вопросе занимал, какие аргументы приводил, как это восстанавливать? Конечно же, большевистское руководство и тогда и позже это делало не из-за разгильдяйства или экономии средств, а, вероятно, для избежания утечек информации. То есть мы вынуждены в ряде случаев просто пытаться реконструировать события, искать людей, генераторов идеи, механизмы и так далее и тому подобное. Тут, в общем, ничего не поделаешь.
Г.КУЗОВКИН. Вопрос к Константину Морозову. Сейчас прямо в вашем ответе, в вашей дискуссии прозвучало – открытые гласные процессы. С какого момента стало ясно, что процесс будет проводиться открыто, гласно, широко и станет пиаровской акцией?
К.Н.МОРОЗОВ. Здесь довольно много неясного. Вообще все, что связано с инициативой проведения процесса, все, что связано с инициацией брошюры Семенова и показаний Коноплевой, неясно. Но эти показания стали ядром, фабулой всего обвинительного материала и позволили придать всему этому процессу, всему обвинению такой пиаровский блеск. Почему? Потому, что эсеров можно было судить за то, что и так все знали (и чем эсеры гордились): за их вооруженную борьбу с большевиками, за защиту Учредительного Собрания, за создание Самарского Комуча в июне 1918 года, за то, что Народная армия Комуча воевала с большевиками и за многое другое, вполне реальное и общеизвестное. Но большевики в таком случае сами оказались бы под ударом, пришлось бы объяснять, что они фактически сами в значительной степени инициировали и развязали гражданскую войну, захватив власть, разогнав Учредительное Собрание, поэтому они предпочли совершенно гениально обвинить эсеров в том, что некрасиво, чем нельзя гордиться: экспроприации, грабежи, террористические акты, от которых руководство партии отказывается, получение денег от французов и англичан и так далее и тому подобное.
В общем, нужно сказать, что многое, связанное с теневой подготовкой процесса на уровне руководства Политбюро и чекистов, не отражено в документах, мы даже не очень себе представляем, что не отражено? Было бы очень важно и хорошо бы знать, о чем говорили Ленин, Сталин, Троцкий и Дзержинский и прочие и на заседаниях и особенно в кулуарах, но этого мы не знаем и не узнаем.
Г.КУЗОВКИН. Я просто в развитие своего вопроса, еще раз его поясню. Формат открытого процесса, формат процесса, который будет отражаться в печати, наверное, должно было состояться какое-то решение политическое по этому поводу?
К.Н.МОРОЗОВ. Дело в том, что не надо становиться заложником нашего современного понимания открытого процесса. Открытый процесс, который объективно и полно освещается в печати, где соблюдаются процедуры, соблюдается состязательность сторон, адвокатам власти не угрожают, а публика не орет и не свистит на подсудимых и т.д. - это совсем не то, что мы имеем в виду, говоря о процессе 22-го года. Во-первых, степень его открытости очень своеобразна. Вся публика, например, в нем, а это от полутора тысяч до 2 тысяч человек, пропускалась в зал по специальным билетам, 60 процентов которых распределял по учреждениям, среди членов партии, Московский комитет большевистской партии, а 40 процентов были отданы в руки чекистов. То есть публика была практически вся подобрана, за исключением небольшого количества родственников, защитников, журналистов. Строго говоря, количество и персональный состав родственников, тоже определялся. В томе Комендатуры процесса лежат заявления подсудимых и списки родственников, сделанные по их заявлениям, так пускали только 2-3 самых близких, а близость (естественно по формальному признаку) определяли чекисты. Таким образом, получалось иногда, что если родственников много, то, скажем, отца и жену пускали (вариантов и комбинаций было много), а родного брата нет – негласный лимит, который придумали сами чекисты исчерпан. Это первое.
Второе. Даже подневные стенограммы, которые власти согласились давать защитникам (а это было аксиоматичным правилом ведения судебных слушаний), те получили после долгих пререканий и прочее, прочее. В конце концов, кстати, одного из защитников уличили в том, что он передал эти стенограммы эсеру Покровскому, члену Московского бюро эсеровской партии и посадили. То, что печатали в газетах, это было, в общем-то, весьма искусное отражение, но не достоверное. То есть мы не можем говорить ни о гласном, ни об открытом, ни о публичном процессе, это специально хитро сконструированный процесс, который постарались сделать как у настоящих, у взрослых, похожий на настоящий. Но вместе с тем, сохраняя вся формальную сторону, с участием защитников, стенограммами, с последними словами, все-таки оставили в своих руках контроль за тем, чтобы слово из зала суда не вышло.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Добавление только одно. Как бы большевики ни стремились прорисовать формат этого процесса, выражаясь современным языком, действующих лиц и так далее, однако, совершенно очевидно, что им противостояли социалисты-революционеры, которые также сознательно шли на процесс, чтобы использовать в тех условиях, которые были в их руках, тех возможностях, которые были у них, в том числе информационных, для передачи их речей, выступлений и так далее, использовать этот процесс как публичную трибуну для оппонирования большевикам, для противостояния большевикам, для выражения своего отношения и к событиям 17-го года, и к НЭПу и так далее. И с этой точки зрения он все равно был открытым, потому что эсеровская точка зрения в конечном итоге прорвалась через эмигрантскую прессу, через иностранных журналистов, которые там присутствовали и так далее.
Он был недостаточно закрытым.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Это уже детали. В данном случае, я считаю, что все равно как бы ни хотели большевики сделать его управляемым и подконтрольным, он, тем не менее, вырывался за границы этого формата, за рамки этого формата. И здесь, безусловно, колоссальная заслуга эсеров, которые были настоящими политическими противниками большевиков, что они это продемонстрировали на этом процессе, используя максимально те минимальные возможности, которые у них были.
Г.КУЗОВКИН. Еще вопрос. Я, наверное, ошибся, сказав, произнеся слово “открытый”, а не постановочный или показательный процесс. То есть архитектура процесса, была ли она предметом обсуждения политических органов, и уже по вашему ответу видно, что была. Вот, скажем, предстоит процесс, на нем будут представители иностранных государств.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Обговаривались абсолютно все детали Политбюро. Решались все вопросы, которые были ключевыми. Кандидатура председателя суда - был выбор очень большой, и обсуждали несколько раз, пока, наконец, не выбрали тот состав суда, который был. Состав защитников с той и с другой стороны, со стороны большевиков, которые будут определенную группу подсудимых-ренегатов защищать и, соответственно, кого допустить из русских и зарубежных защитников к этим процедурам. То есть все это очень тщательно прорабатывалось на достаточно высоком уровне, и с этой точки зрения, технология, которая отражена в документах, она позволяет судить, каков был механизм постановочного процесса, о котором вы говорите. Это в документах есть.
Г.КУЗОВКИН. Вопрос. Скажем, вот информационное значение, которое придавалось процессу, что потом как бы даже наоборот отыграло. Но, скажем, ведь могли же или не могли из-за того, что были западные социалистические круги, могли втайне расправиться с эсерами-заключенными, или это именно задумывалось, как дискредитация эсеровского движения?
К.Н.МОРОЗОВ. Конечно. Ведь многие из тех, кого вывели на процесс, были арестованы в 19-20 году. И их уже по 2-2,5 года держали в тюрьмах, и многих из тех, кто не попал на процесс, их так и продолжали держать в тюрьмах, а затем провели через череду политизоляторов и ссылок, ну и закончили они почти все свои жизни в лагерях, да в тюрьмах. Тридцать восьмой год практически (за единичными исключениями) никто из эсеров-мужчин не пережил, после январской директивы Ежова, инициированной Сталиным, их все расстреляли. То есть перед большевиками не было проблемы, как физически расправиться с эсерами, эту проблему они успешно решали в годы гражданской войны и нашли очень хорошие, апробированные методы. Естественно, играть в этот процесс им нужно было, преследуя лишь определенные цели. Одна из этих целей (о некоторых из них мы говорили), с одной стороны, конечно, нужен был информационный повод, чтобы раскрутить вот эту пропагандистскую пиаровскую акцию, которая была совершенно гениальной. То есть это делалось для всех уровней населения и страт общества: для неграмотных людей, скажем устраивались, всякие кукольные театры, где Петрушка дубиной бил Чернова и рисовались плакаты, а для заграничной эсеровской эмиграции или российской эсеровской среды специальными точечными акциями, которые проводились разными комиссиями, в том числе и созданной Дзержинским. В рамках таких точечных акций публиковались, скажем, перехваченные письма эсеров, где они ругали часть заграничных эсеров или где часть эсеров высказывала свое несогласие с местными эсерами, таким образом чекисты пытались стравить эсеров между собой. И вот диапазон целей этой пропагандистской акции был очень широк, и она была, наверное, самой удачной применительно к формированию точки зрения неграмотной массы.
Но были и другие цели, другие задачи. Уже, собственно, мною говорилось о том, что это была попытка власти показать, что социалисты попадают под удар, как и все другие политические силы, и что режим не будет трансформироваться и политически перерождаться.
Конечно же, следует еще подробно разбираться и в мотивах и соображениях, толкнувших большевистское руководство на проведение процесса. Все-таки есть неясности.
Г.КУЗОВКИН. Еще то, что вы найдете нужным сказать о механике процесса. То есть по публике вы уже рассказали. Вот демонстрации вокруг процесса, как они организовывались?
К.Н.МОРОЗОВ. Большой удачей в нашей работе является то, что удалось найти в архиве ФСБ дело по агентурному освещению митингов и собраний на заводах. Это дело не очень большое, там порядка 40 или 50 архивных листов, но, тем не менее, эти документы позволяют отказаться от распространенного мнения, что все как один шли стройными колоннами с лозунгами “Смерть эсеровским убийцам”. Чекистская агентура фиксировала, что на ряде заводов рабочие выступали против, принимали или нейтральные резолюции, или говорили о том, что не дело рабочих говорить о приговоре, а что это дело суда, или говорили о том, что большевики сами творили бог знает что в годы гражданской войны, а теперь пытаются судить тех, кто менее виноват.
И надо сказать, что чекисты действовали очень оперативно, арестовывая или прямо в ходе собрания, или после собрания. Известны и случаи, когда была объявлена забастовка на одном из крупнейших московских заводов после ареста шести эсеров, высказавшихся на одном из таких выступлений, и эта забастовка была поддержана рабочими еще одного завода, хотя все это было достаточно быстро подавлено, а после начались массовые увольнения.
Но, с другой стороны, мы можем говорить и о массовом безразличии, апатии и о том, что многие эти собрания, без всякого сомнения, были хорошо организованы. В частности, проводили огромные собрания в летних садах. Так вот, билеты на эти собрания выдавали в комитетах партии, и они распределялись среди рабочих-коммунистов. Естественно, эти собрания как один голосовали “за”.
Г.КУЗОВКИН. Еще один вопрос, опять-таки о механике. Взаимоотношения с фигурантами процесса. Какие-то способы давления на них перед процессом, в ходе процесса, репетиции и тому подобное.
К.Н.МОРОЗОВ. Следует сказать, что зная, что происходило в 30-е годы при подготовке процессов, невольно, инстинктивно начинаешь проецировать это и на 1922 год, и конечно, у тебя есть некоторое ожидание физического давления, допросов с пристрастием и откровенных пыток. Пока ты не познакомишься с реалиями, не вникнешь в эпоху, срабатывает своеобразный психологический механизм рассуждения по аналоги – раз были эти методы уже в 1929–1931 гг. (не говоря о том, что и как творилось позже), почему бы этому не быть и в 1922 г.
Надо сказать, что ничего подобного на данном процессе не было, да и, в общем, быть не могло.
Во-первых, потому что в дореволюционной традиции такое не практиковалось даже жандармами. Если отдельные случаи, скажем, были в годы революции 1905-1907 годов, то именно как отдельные случаи. То есть пыток во время допросов практически не было, это всегда было из ряда вон выходящим. А потом большевики применяли пытки, скажем, в годы гражданской войны, чекисты применяли пытки, это общеизвестно, но не на процессе же, в котором ожидалось участие иностранных защитников и лучших отечественных защитников? Было же понятно, что информация о подобных вещах уйдет. Да и без процесса, чекисты еще несколько лет на подобные вещи не решались - и страна еще не была достаточно закрыта и все это уходило на Запад, да и эсеры с меньшевиками еще пару-тройку лет выпускали свои нелегальные газеты и листовки.
Что касается способов давления, то это было организовано очень интересно. Ведь список подсудимых как первой, так и второй группы (группы ренегатов) определялся в последний момент. Все, кто дали слабину и заявили о своей готовности сотрудничать со следствием, и стали давать фальсифицированные показания, их в зависимости от ряда соображений, или включали во вторую группу подсудимых или отправляли, соответственно, выпуская из тюрьмы - в свидетели обвинения, выводя из числа обвиняемых первой группы. И практически таким образом сформировали значительную часть свидетелей обвинения. Отправляли во вторую группу тех обвиняемых, которых нельзя было выпускать из тюрьмы ради соблюдения приличий. Это члены боевой группы Семенова, рабочие боевики. Фактически эти люди купили себе свободу без физического воздействия, просто выбирая между свободой и бесконечной жизнью в неволе (а скорее даже, расстрелом, потому что всем боевикам, по определению, светила “вышка”).
Отдельные эпизоды давления все-таки стали известны во время процесса. Скажем, один из свидетелей, Снежко-Блоцкий отказался от своих показаний, обосновав тем, что допросы проводили ночью, всю ночь, и что он был болен и не отдавал отчет. И трибунал был вынужден вынести частное определение в адрес Агранова. Были там и другие способы давления. Было ли запугивание, тут остается только гадать. Вероятно, было. Но пыток не было точно.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я думаю, что процесс не смог бы состояться, если бы не было так называемых идейных ренегатов, то есть тех, кто сознательно совершенно перешел на сторону большевистской партии, принял членство в этой партии и совершенно сознательно уже выходил на процесс, будем говорить так, полностью порвав с эсеровским прошлым, с их традициями и так далее. Вот эта группа идейных ренегатов, которую, конечно же, возглавляли много раз цитируемые Семенов и Коноплев, и примкнувший к ним Григорий Ратнер, сестра которого была на другой стороне баррикад. И получается, что даже здесь трещина прошла через семьи. То есть то брат обвинял сестру, то сестра брата в том, что каждый идет против идеалов социализма, этики революционеров и так далее.
Вот в этом плане, безусловно, процессу были приданы законченность и динамизм в том, что большевики противопоставляли идейным эсерам таких же идейных ренегатов. Можно по-разному оценивать, почему каждый перешел к большевикам и так далее, но, повторяю, динамизм и трагизм этому процессу был придан, потому что это были люди, которые совершенно сознательно, отрешившись от прошлого, пройдя по-своему путь переоценки ценностей, у Семенова было это, у Коноплевой в письмах есть это все, как они мучительно рассуждают, что такое ренегатство, как их будут воспринимать и те, и другие. “Свой среди чужих, чужой среди своих” - это формула, которая очень подходила для них. В этом плане они как раз и придали процессу драматизм и своеобразие.
Г.КУЗОВКИН. Мотивы просматриваются?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Это сложно, это индивидуальные причины.
К.Н.МОРОЗОВ. Я бы тут обязательно вот что отметил. Дело в том, что идейных ренегатов было совсем не много, фактически все те же Семенов и Коноплева.. Дело ведь в том, что центральная “тройка” приняла специальное решение о привлечении к процессу в числе обвиняемых и бывших эсеров, ставших коммунистами, как раз с той целью, чтобы они вошли и в число свидетелей обвинения, и в число обвиняемых.
Более того, Григорий Ратнер, его ведь к процессу не привлекали, он сам добровольно пошел, написав заявление, судить его было не за что и в результате его оправдали. Собственно, никакого обвинительного материала против него лично не было. Он стал руководителем этой группы ренегатов, как бы идейным вдохновителем, он составлял и делал от них все заявления. Но к нему претензий как раз-то и не было. Он был вынужден объяснить, почему он вгоняет в гроб собственную сестру, сидящую на скамье подсудимых, и он сказал, что ради идеи торжества революции, я дословно не помню, но это есть в сборнике, должно и родную сестру свести на эшафот. То есть это уже пахнет откровенным фанатизмом. Надо сказать, что ни в эсеровской, ни даже отчасти в большевистской среде такой фанатизм, и особенно ренегатство Семенова и Коноплевой восторга не вызывали, и они получали адекватную оценку, адекватную старым понятиям кодекса чести революционера, которые не изжила еще и часть большевиков. Есть документ в материалах сборника, что чекисты, а затем и члены Политбюро издали специальную инструкцию для членов большевистской партии о том, что в большевистской партии появилось неприятие этих эсеров-ренегатов. Там писалось, что они это делают на пользу революции, на пользу большевистской партии. То есть пошло жуткое неприятие, в том числе Семенова и Коноплевой, даже в среде большевиков, которые считали их откровенными провокаторами.
Так что, безусловно, с одной стороны, были и идейные и морально-этические метания, но это явно не распространяется на большинство из этой группы эсеров-боевиков, которые откровенно покупали себе жизнь. И это совершенно четко видно по допросам.
Г.КУЗОВКИН. Иностранцы на процессе. Как их отбирали, было ли здесь какое-то воздействие?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Здесь нужно выделить несколько групп людей иностранного происхождения, которые участвовали в процессе. Естественно, они также в известной мере селекционировались большевистским руководством. Например, там были представители Коминтерна, которые выступали в качестве защитников той второй группы ренегатов. В частности, там выступала и Клара Цеткин, и некоторые другие. В число свидетелей вводились видные функционеры, скажем, французской компартии, чешской компартии и так далее. В этом плане максимально был задействован потенциал Коминтерна со всеми его дочерними организациями. Это, безусловно, появление тех, кого большевики не могли предотвратить. В частности, это три социалиста, приехавших как представители 2 и 2,5-ого Интернационала во главе с Вандервельде. Там был брат Карла Либхнехта.
К.Н.МОРОЗОВ. Это вызывало жуткое раздражение большевиков. И ему кричали на вокзале на грандиозной встрече иностранных защитников: “ Теодор, где твой брат, убийца?”.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Было три человека. Эмиль Вандервельде, Курт Розенфельд и Теодор Либхнехт. Каждый из них, по сути дела, представлял то или иное крыло достаточно умеренной социал-демократии, но, тем не менее, конечно же, они были оппозиционны большевикам. И большевики сделали все возможное, чтобы любыми способами фактически создать для них условия, невыносимые для пребывания на самом процессе и для выполнения функций. Были созданы такие условия, которые, собственно, и спровоцировали их на скорый отъезд из страны, хотя и выполнялось формально постановление Берлинского совещания. А провоцировали их по-разному. Например, ограничили их возможности вести стенографические записи, иметь помощников, переводить, чтобы им переводили адекватно выступления, которые шли на русском языке и так далее. Вплоть до того, что их вымотали чисто экономическими способами. Им загнули такие цены за проживание, которые просто не позволяли им выдержать.
Как это было сделано?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Их поселили за городом в очень роскошном особняке. Это двоякую цель преследовало. Даже троякую. Во-первых, их изолировали от центра Москвы и, соответственно, они были полностью зависимы от автомобиля, который им подавали, и это давало возможность их контролировать четко. Во-вторых, в прессе подняли вой по поводу того, что тоже мне, социалисты приехали, а здесь жируют. И, соответственно, их и кормили-то из ресторана, им обеспечили неприличные по тем меркам буржуйские условия. На этом стали просто нарабатывать себе пропагандистские, а потом они израсходовали просто все деньги, которые они с собой привезли, это был очень хитрый ход. Они просили, чтобы их переселили в что-либо дешевое, простое.
И более того, когда уже полностью было понятно, что иностранные социалисты, защитники должны будут уезжать, то им еще чинили несколько дней препятствий, чтобы они не выехали. И тогда они объявили голодовку, сутки голодали и вот этим актом демонстративного протеста заставили разрешить им выезд.
И третий компонент тех иностранцев, которые присутствовали на процессе – это иностранные журналисты, мы, к сожалению, не знаем всего спектра, который там был представлен, но совершенно очевидно, что несколько журналистов, в том числе и из респектабельных американских газет были по сути дела, на мой взгляд, подкормлены Советской Россией. Потому что они писали такие репортажи об открытии, о ходе, о завершении процесса в совершенно просоветском духе.
К.Н.МОРОЗОВ. Я думаю, может быть, это объясняется не столько подкормленностью, хотя это и не исключено, это объясняется тем умонастроением в Америке, которое в это время было. Там все-таки было намного больше иллюзий, чем в Западной Европе, о том, что происходит в Советской России. Скажем, по письмам заграничных эсеров, по письму того же Авксентьева, который в 19-м году пытался объяснить, убежав от Колчака, американцам, что происходит в России. Он говорил, что мы попадаем в глупейшую ситуацию, нас с удовольствием слушают буржуа, которые ненавидят большевиков, но нас они тоже ненавидят. А все социалистически настроенные рабочие круги считают невозможным поверить нам, они говорят, что большевики строят социализм, и это настроение в Америке еще сохранялось и в 1922-ом году. Это вероятнее, чем подкормленность, потому что журналисты были вынуждены думать, как их слово будет воспринято американской аудиторией.
Г.КУЗОВКИН. Последние два вопроса. Контроль над несанкционированной информацией из зала суда и второй вопрос: можно ли себе представить масштаб задействованных сил вокруг процесса и оперативного обеспечения процесса, несколько слов.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я бы сказал: гигантский и неадекватный, а Костя об этом расскажет.
К.Н.МОРОЗОВ. Объем привлеченных сил, средств, людей поражает. Он вызывает удивление, потому что мы воспитаны на представлении, которые пропагандировались в советских фильмах, что эсеры это что-то несерьезное, к которым относиться всерьез нельзя. А тут читаешь в документах и видишь, что было создано огромное количество троек, в которых была задействована значительная часть членов Политбюро, руководство Коминтерна, многие видные иностранные коммунисты. Были задействованы практически все партийные публицисты, которые писали огромное количество брошюр, это был девятый вал широкомасштабнейшей пропагандисткой кампании, первой такого уровня в советской истории. Были задействованы и колоссальные чекистские силы. Скажем, охрана самого здания, самого процесса тоже поражает, она предусматривала принцип тройного дублирования. Мало того, что было огромное количество красноармейцев, среди этих красноармейцев были переодетые чекисты, которые следили за самими красноармейцами, чтобы они не вступали в какие-то контакты с подсудимыми. Кроме того, чекисты подслушивали, о чем пытаются говорить между собой подсудимые. Кроме того, были люди в штатском, которые ходили, перемещались, имели оружие, для них была разработана специальная инструкция.
ВОПРОС. Инструкция есть в документах?
К.Н.МОРОЗОВ. Есть пересказ этой инструкции в предисловии, достаточно краткий, но в общем там все понятно. И были еще задействованы силы комендатуры процесса. Но более того, посчитали, что и этого мало, решили обеспечить охрану еще и силами сидящих в зале коммунистов, которые приходили на заседания суда с оружием и должны были в случае, если произойдет вдруг какое-то смятение, отключение электричества, начнется паника, должны были пресекать, следить, хватать и прочее. Кроме того, за каждым чекистом был закреплен подсудимый на случай, вот таких событий, что бы те не ускользнули и были выделены несколько как бы особо опасных – это Гоц, Тимофеев, Донской, это Иванова, если память мне не изменяет.
Что касается пресечения ухода информации из зала суда. Во-первых, была установлена телефонная прослушка переговоров всех родственников и адвокатов. Их подслушивали и в самом зале заседания. Причем чекисты с возмущением писали о демонстративности поведения родственников: так, некоторые жены кричали вслед чекистам: позор вам, коммунистам, один из родственников стоял, когда должен был выйти трибунал, а вот когда все вставали, он садился демонстративно. И целый ряд других сюжетов.
Естественно, беспрецедентные меры предприняли, чтобы информация не уходила из тюрем, то есть попытались прекратить свидания еще в мае. Это вызвало голодовку. Видные члены Политбюро стали говорить чекистам, что же вы делаете, зачем вы обостряете ситуацию? В общем, чекисты были вынуждены восстановить свидания. Но, конечно, информация уходила. Чекисты немногое могли поделать, нужно было допустить общение с адвокатами, в том числе и с иностранными адвокатами. Потом сами подсудимые стали шептаться, и уже, скажем, к концу июня один из чекистских начальников говорил, что сейчас установилась ситуация, что в каждом красноармейце небезосновательно видят переодетого чекиста, если говорят вслух или в полголоса, значит, они нам информацию передают, а на самом деле они друг другу на уши шепчут. То, что удавалось подслушать, подслушивалось агентами из числа свидетелей защиты, которые могли свободно общаться с подсудимыми первой группы, но предавать огласке власти это не могли, по совершенно понятным причинам. Короче говоря, все, что можно было сделать от них зависящее, чекисты делали. Вплоть до того, что в августе они надзирателей одели в новые брюки, у которых не было карманов.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Если говорить о том, какое ведомство или какая структура выиграла от этого процесса, я думаю, что в прагматическом плане больше всего выиграли чекисты. Почему? Совершенно понятно, что в этом плане они себе создали плацдарм для бесконечного расширения вот этого всего поля, которое они предложили в политическом плане: добивание партии, инициация разного рода ликвидаторских съездов и так далее. То есть конструировали образы врага, расширение образа врага, и главное, ресурсы. Вот почему вокруг этого процесса, о чем Константин говорил, они создали совершенно гигантскую машину обеспечения этого процесса. Это, естественно, говорит о том, что они максимально использовали эти возможности.
И у меня возникает историческая параллель. Если бы, предположим, появилась бы возможность посмотреть, насколько это ведомство выросло в количественном, в финансовом отношении и так далее благодаря этому процессу, благодаря тому, что они создали потом дальше конвейер арестов эсеров, добивания этой партии и так далее, тому подобное, понимаете, какие средства и возможности были открыты. Резервный потенциал оказался неисчерпаемый. Параллель очень простая. Я занимался более или менее исследованием того, как ГПУ готовило карательные массовые операции против крестьян в конце 29-го - начале 30-го года. У меня нет сомнения в том, что, предположим, вот это напряжение в деревне, которое бесконечно нагревалось чекистами, они уже фальсифицировали, например, в среде крестьянства группы, которые якобы раскрывали контрреволюционные заговоры и так далее, и тому подобное. То есть они раскрывали то, что они инициировали сами. Либо придумали, либо провокаторскими методами создавали вот эти группы в среде крестьянства, потом раскрывали, арестовывали сотни людей, и в сущности деревни ставили на дыбы. И в этом плане совершенно очевиден прагматический смысл. В течение 30-го года чекистские органы выросли на энное количество, я думаю, что на целый порядок. Есть просто цифры, во сколько увеличились эти регулярные силы, эскадроны, оперативные отряды, сами оперативники на местах и так далее. У меня совершенно четкая аналогия, что если говорить о том, кто выиграл в первую очередь в прагматическом смысле от этого процесса, тут совершенно очевидно, что чекисты дали всем очень солидную фору.
К.Н.МОРОЗОВ. Для меня, например, было удивительным, что дело ведь не ограничилось только подготовкой самого процесса, и то, что мы говорим о том, что этот процесс имел большое значение для отработки последующих процессов, технологии этих процессов, это верно, но это только часть последствий. Для меня было большим открытием, например, то, что именно под этот процесс практически в конце мае - начале июня в совершенно авральном порядке была заложена осведомительная сеть во всех московских высших учебных заведениях. И, в общем, мы пересказываем эту инструкцию, из которой видно, что предлагали в порядке партийной дисциплины двум коммунистам из каждой студенческой группы бывать на всех студенческих собраниях, вечерах и посиделках, доносить о всевозможных антисоветских выступлениях профессуры, научных сотрудников, в какой бы форме замаскированы они не были, что для связей с ними специальные назначались лица в каждом учебном заведении. Более того, чекисты тут же потребовали списки всех ВУЗов со всей страны с сообщением данных по количеству студентов, по фамилиям членов партийной организации и так далее, тому подобное. То есть была создана строгая система, которая замыкалась на кураторах из секретного отдела ГПУ. Без всякого сомнения, эту систему перенесли вскоре на всю страну.
Другим для меня важным открытием было то, что вот эти знаменитые чсиры, члены семьи врага народа, которые мы связываем всецело с 30-ми годами, вдруг всплывают здесь в документах в июле, августе 22-го года, инициированных, не кем иным, как великим железнодорожником и другом беспризорных детей Дзержинским о том, что нужно высылать всех членов семей подсудимых и просто эсеров и их семьи из Москвы и Петербурга, из всех городов, где имеются иностранные посольства, потому что они могут передавать информацию. И этот документ мы тоже цитируем в предисловие. Кроме того, там есть замечательное такое предвосхищение практики 30-х годов, когда Дзержинский обращается в Политбюро, скорее всего, это не встретило поддержки, тогда это даже слишком смело было. Он предлагал за сам факт принадлежности к эсерам давать год тюремного заключения, за факт содействия тоже сажать, и затем поражение в правах. Начинался этот документ с того, что партию эсеров объявить незаконной. И далее со всем вытекающими последствиями, со всей лексикой и конкретикой, которая нам стала хорошо известна.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Штрих хронологический. Процесс закончился 7 августа, он продолжался чуть больше 50 дней. А 10 августа ВЦИК принял весьма важное постановление для развития карательной политики как таковой, по сути дела восстановил институт административной высылки и ссылки. Это тоже в значительной мере подтолкнуло, сам процесс подтолкнул воспроизведение этого института царского времени, который в 17-ом году рухнул вместе с царским правительством и до 22-го года она находился в анабиозном состоянии, большевики практиковали высылку и ссылку, но без законодательного оформления. А здесь 10 августа, через несколько дней после того, как закончился процесс, она была легализована нормативными документами. И буквально еще через некоторое время развита. В этом плане мы можем сказать, что процесс еще стал катализатором других последовательно проводимых карательных мероприятий, которые давили все живое, мыслящее, растущее в этой стране. Так что его нельзя рассматривать изолированно от самой карательной политики, даже по такому весьма симптоматическому совпадению.
Г.КУЗОВКИН. Введение ссылки вы непосредственно связываете с определением судьбы подсудимых?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Нет, я не связываю непосредственно. Но просто эти вещи совпадают по времени и по тональности. Потому что дальше требовалось обеспечивать во все более возрастающих количествах, будем говорить так, различные меры изоляции. Одно дело – это тюрьма, это привычно, а другое дело, ведь административная ссылка это превентивная мера, нет доказательств прямых, но человека надо изолировать, из какой-то территории выслать, и в этом плане совершенно четко, это тоже август 22-го года, эти вещи очень хорошо ложатся в общую схему того, как дальше проводить государственную репрессивную политику.
К.Н.МОРОЗОВ. Два слова про административные высылки. Дело в том, что они дополняли аресты. Ведь аресты эсеров велись непрерывной чередой. Они как начались весной 22-го года, так и продолжались до начала 23-го года во всероссийском масштабе. Они вырубали среду самих эсеров, но оставалось еще их “среда обитания”, друзья, близкие родственники, сочувствующие. И административные ссылки должны были вырубать эту среду обитания, родственников и тех сочувствующих, которых нельзя было арестовать, даже, несмотря на эластичность советской системы. Выход был один, высылать членов семей, высылать нужно было так или иначе знакомых, товарищей, друзей. То есть большевики вычищают целую нишу, целую среду (прежде всего, это интеллигенция) в которой эсеровская, меньшевистская “зараза”, конечно, могла прорасти. И конечно же, это “среда обитания” революционера в самом прагматичном смысле этого слова. Где еще он мог черпать моральное сочувствие и поддержки, где скрываться, где ночевать, где получать материальную поддержку, с чьей помощью бежать за границу или ставить подпольную типографию и т.д и т.п. Мне представляется, что большевики, понимая, с одной стороны, хорошо проблему изнутри, как бывшие подпольщики, с другой, переступив через всякие “глупости” вроде прав личности и законности (жандармы и охранка тоже были не прочь через это перешагнуть, но их заставляли соблюдать “приличия”), извлекли уроки из царской практики, когда жандармы оказались не способны искоренить “заразу” в силу того, что не вырубали ее вместе с целыми социальными пластами.
И с этой точки зрения, процесс чем хорош и интересен? Большевики ведь не реформировали свою систему по какому-то плану, они просто шли от практики. Они видели здесь узкое место, кидали туда силы, видели здесь, кидали туда. То есть это шла система совершенствования. И даже не с сами процессом я бы это связывал, а связывал бы с необходимостью уничтожить социалистические партии. И поэтому здесь все подсобные меры – и сам процесс, так и всевозможного рода расколы, пропагандистские “утки”, внесудебная высылка, провокация всякого рода. И закончилось это в конечном счете тем, что организовали съезд в 23-ем году, ликвидационный съезд партии.
Возвращаясь к иностранцам, слежка была за ними организована?
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я думаю, что практически любой иностранец, который в это время находился в стране, а их было немного на самом деле в тот момент, легально работали только организации, помимо дипломатических представительств были миссии “Красного креста”, были организации, которые помогали голодающим, и на самом деле их было немного. А чекистских сил было вполне достаточно, чтобы обеспечить любой контроль за ними. Поэтому я без преувеличения могу сказать, что любой иностранец, который в это время появлялся, жил или хоть на какое-то время был в Москве, он, безусловно, находился под контролем и под надзором, под опекой, это совершенно очевидно.
К.Н.МОРОЗОВ. За исключением коммунистов из третьего Интернационала, соответствующего ранга. Я не думаю, что за Кларой Цеткин следили. А в общем, безусловно.
Заключительный вопрос. Во-первых, когда выходит книга. И второй вопрос, что для вас значит эта работа?
К.Н.МОРОЗОВ. Что значит эта работа для меня. Надо сказать, что довольно многое, потому что интерес к теме эсеров у меня возник рано, наверно, даже очень рано и необычно - в 13 лет, когда я прочитал книжку левого эсера, а затем советского писателя Масловского (псевдоним - Мстиславский)“Грач – птица весенняя”, где была прорисована парочка положительных героев-эсеров, и задался вопросом, а что же из себя представляли эсеры, почему закончили так трагично. И этот интерес привел меня в университет (я родился и вырос в Самаре), куда я шел не сомневаясь, на чем я буду специализироваться, наивно думая, что в каждом университете можно специализироваться по любой теме, и то, что именно в этом областном университете оказался самый крупный в стране (да и в мире) специалист по эсерам – Михаил Иванович Леонов, конечно было редкой жизненной удачей. И, в общем, на все вопросы, тогда у меня возникшие, я постепенно себе отвечал, и когда мне предложили заняться сборником, я уже ответил практически на все, кроме разве того, что я не знал деталей, страшных в своей жизненной правде деталей событий, связанных уже с трагичными страницами истории ликвидации эсеровской партии, когда ломались человеческие судьбы, когда некоторые из них были вынуждены кончать жизнь самоубийством, лишь бы не предать свои идеалы. И, скажем, читая сейчас их письма, предсмертные письма, тюремные записки, я начал ощущать своеобразный долг перед ними, — за то, что они не предали себя, не предали свои идеалы. Долг во чтобы то ни стало вернуть их голоса из небытия, вернуть в максимальной степени, уж по крайней мере, эту страницу их тюремного противостояния. Если бы я был уверен, что скоро в архив ФСБ придет кто-то другой и сделает эту работу, как должно - я хотя бы имел выбор. Но когда я с головой влез в “тюремное противостояние”, то вскоре я понял, что для меня чисто научные задачи сборника отошли на второй план, перестали быть главными, а главным стало – рассказать об этих людях, любой из которых мне внушает больше уважения, чем вся наша сегодняшняя политическая элита вместе взятая. Я потому и переписал от руки около 8 печатных листов этих тюремных документов (в ущерб другим темам), что я почувствовал, что я должен это сделать — ради памяти об этих людях, о которых сейчас никто не помнит, да и никто особо не хочет знать. Я понимал, что с точки зрения чисто профессиональной эта тема совсем не выигрышная, в отличие от тех сюжетов, которые можно было бы поднять на некоторых просто уникальных материалах фонда процесса (Н-1789), которые, конечно же, не удалось полностью отработать, ибо счет там шел на десятки, если не на сотни тысяч архивных листов. К тому же работа с тюремным материалом была психологически крайне тяжелой. Но не доделать эту тему я не мог, хотя под конец так устал от этой многолетней нескончаемой работы, что если мог бы ее бросить, то бросил бы с облегчением. И еще. Когда я написал в 1998 г. свою первую книжку “Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг.”, и получил лестные отзывы на нее (и получаю до сих пор, особенно от региональных историков, черпающих оттуда фактуру и мысли, нужные им для своих работ на местном материале), меня долго не покидала мысль - не слишком ли большую цену я плачу, тратя немереное количество сил и времени на архивное сидение ради удовлетворения любопытства еще нескольких таких же, как и сам, ученых дураков. Кому нужны еще эти цифры организационного состояния эсеров в таком-то уезде Тамбовской губернии в 1909 г. или споры о тактике и т.п.? Помимо научного любопытства, нужно еще и ощущение, что это кому-то нужно и будет востребовано. Была весьма неприятна мысль, что за редким исключением работаешь для равнодушных аспирантов, которые и интереса-то к этой теме не имеют, кроме защиты диссертации, после которой они о ней забывают. Сегодняшняя работа над сборником (и особенна моя работа в “Мемориале” над списками социалистов и анархистов, боровшихся с советским режимом) позволила мне вырваться за эти рамки, которые, конечно же, давили – я перестал мучаться ощущением ненужности своей работы, а это очень важно.
Я знаю, мы этой книгой не все сделали, что могли, есть целый ряд недостатков, а главное, я не все прочитал, не все переписал, что позарез нужно было переписать по куче разных сюжетов, не использовал до конца возможности этого уникального фонда, но все же чувство выполненного долга у меня есть, и это чувство мне не испортят зануды, обожающие выискивать любые ошибки и промахи в чужих книгах, вместо того, чтобы потратить эту энергию в мирных целях - на писание своих собственных.
С.А.КРАСИЛЬНИКОВ. Я сформулирую это через три составляющие, что дала мне эта работа: человеческий компонент, научный и педагогический. С точки зрения педагогического, работа над этой книгой, подготовкой этого сборника в течение 5 лет, а я еще и преподаю, подвела меня к тому, что в этом году я решился и прочел в своем родном Новосибирском университете спецкурс для студентов исторического отделения под названием “Советские судебные политические процессы 1920-1930-х годов”. И надо сказать, что у нас норма слушателей по спецкурсам, у нас очень небольшие наборы, 25 человек на каждом курсе, поэтому нормальным считается, чтобы спецкурс состоялся, нужно, чтобы не меньше 5 человек ходило, тогда это все нормально. У меня ходило 30 с лишним человек за счет того, что помимо историков еще стали приходить журналисты и некоторые другие, даже не гуманитарии. Действительно, им было просто-напросто интересно послушать, может быть, даже не меня, а о том, что я им рассказывал. В том числе я посвятил две лекции из 10 примерно, посвятил специально эсеровскому процессу 22-го года, потому что он был моделью, от которой можно было отталкиваться и освещать процессы последующие, вредительские так называемые и потом уже к эпохе начала большого террора.
Второй момент, он чисто научный. Он связан с тем, что работа над этим сборником, по сути дела, дала мне возможность вырасти как публикатору. Поскольку мне пришлось в этой расстановке внутри нашего коллектива отвечать за археографическую часть данного издания. И это означало, что я должен был максимально приблизить его к тому стандарту, который был задан академиком Покровским и Станиславом Петровым при подготовке издания “Политбюро и церковь”. Это меня очень сильно заставило двигаться в направлении современных источниковедческих технологий и так далее. Я считаю, что вернуться обратно, впасть в “ксероксную археографию” я уже просто физически не смогу, потому что я не позволю себе халтурить, будем так говорить, при работе с источниками.
И третий момент, последний, он чисто личностный. Дело в том, что я все равно бы рано или поздно пришел к этому процессу, изучению его, потому что я родом из Нарымского края. Одного из членов ЦК эсеровской партии Дмитрия Дмитриевича Донского, после 24-го года из тюрьмы сослали в Нарымский край на 12 лет до своей кончины, и мои родственники прямые, то есть моя мама и мой дядя, будучи спецпереселенцами, в детстве видели Донского, по крайней мере, могли с ним разговаривать, а моего дядьку он вообще спас. Когда у него началось заражение и могли ему руку оттяпать, но его все-таки довезли до райцентра, и Донской сделал все возможное, и дядька мой живет и здравствует до сих пор. Поэтому личность Донского, она своего рода легендарная в тех Нарымских краях, где я родился и вырос, и рано или поздно я должен был выйти на эту тему. Я на нее в чисто человеческом плане выходил благодаря интересу к личности Донского. Так что свой долг я выполнил.