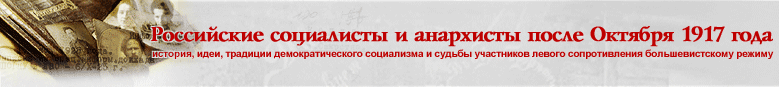
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
БЕСЕДА С Б.А. БАБИНОЙ
– Б.А., когда и при каких обстоятельствах зародился ваш интерес к политической деятельности? Что оказало решающее влияние на формирование ваших взглядов?
– Мне было 14 лет, когда я заинтересовалась революцией. Мой отец тяготел к кадетам, сочувствовал Милюкову, Родичеву и т.д. Отец выписывал журнал "Былое", и я его всегда внимательно читала. Впечатляли романтика, героизм. Там было много и об эсерах: самое начало, девятисотые годы, когда был убит Сипягин. Потом произошла история со Спиридоновой, потрясшая все общество.
– Какая именно история?
– Когда она убила Луженевского в упор, на вокзале. Ее схватили и повезли из Тамбова в Петербург, где заседал Военно-окружной суд. Я до сих пор помню фамилии жандармского и полицейского офицеров, сопровождавших ее: Жданов и Абрамов. Они над ней всю ночь издевались, тушили об ее тело папиросы, вырывали волосы, насиловали.
Военный суд приговорил Спиридонову к смерти, к повешению, но это был 1905 - начало 1906 года, - короткое время какой-то относительной свободы печати - и началась широкая кампания за отмену приговора. И у нас, и за границей. Повешение заменили бессрочной каторгой. Для меня Спиридонова была героиней божественной.
Тогда же, в 14 лет, как раз после этой истории я повстречала бывшего народовольца, а затем эсера Самуила Моисеевича Шаргородского. И окончательно избрала этот путь.
– А социал-демократы вас не привлекали?
– У меня были друзья и среди социал-демократов. Папин бухгалтер, например, - Марк Миронович Брусиловский, - очень интересный, темпераментный человек, меньшевик, конечно. Но в революции я тогда искала романтики. Так что в выборе между эсерами и социал-демократами была чисто эмоциональная подоплека, - знаний было еще очень мало. Самообразование проходило, в основном, - по нашей зарубежной газете "Революционная Россия" и очень интересной книжке Лидии Лойко "Надо знать не меньше". Она состояла, кажется, из 12 лекций по различным вопросам эсеровской программы: философское обоснование аграрный вопрос, политическое устройство государства, рабочий вопрос...
Потом была встреча с моим первым мужем. Звали его Миша Головин. Талантливый, красивый, элегантный. За участие в Московском восстании он был приговорен к вечному поселению в Якутске, но бежал оттуда за границу, в Париж. В 1910 году приехал из эмиграции, чтобы по заданию боевой организации проследить маршрут царя. Пришел ко мне на явку, пробыл в Петербурге все лето, выполнил задание, а когда наш дворник, которому мы щедро давали на чай, предупредил, что за мной установлена слежка, мы с Мишей уехали в Рим. Там у меня родился сын, а Миша через год после свадьбы умер от скоротечной чахотки, которая началась у него в Александровском централе. С крохотным ребенком я вернулась домой к родителям, и тут началась регулярная работа в общегородской эсеровской студенческой организации.
Мы выпускали маленький журнальчик, кажется, "Студенческие годы". Я, помню, однажды даже написала передовую статью, но стеснялась сказать, что она моя, и подписала псевдонимом. Потом, когда по амнистии к 300-летию дома Романовых вернулся из ссылки мой будущий муж Борис Бабин (Корень), он приобщил меня к городским газетам. Это знаменитые - "Правда", меньшевистская "Рабочая газета" и наша "Мысль" (под разными названиями: "Мудрая мысль", "Стойкая мысль", "Народная мысль" и т.д.). Газета выходила легально, но каждый номер закрывался. У нас из безработных рабочих, членов нашей организации, были зиц-редакторы. Они подписывали номер, приносили чай, булки - сидеть приходилось всю ночь - номер выходил к утру, потом оставляли 10 - 15 номеров для полиции, а весь передавали дежурившим у редакции представителям заводов. Так же поступали и большевики, и меньшевики.
– Среди рабочих эсеры тоже пользовались популярностью или только социал-демократы?
– Популярность социал-демократов - чистая легенда. Эсеры были достаточно сильны среди рабочих, особенно в Петербурге. Но тогда все социалистические партии относились друг к другу по-товарищески. Было, разумеется, много споров и даже публичных диспутов. Директор Петербургского Психоневрологического института Бехтерев терпел, что на территории его института часто собирались нелегальные организации - там-то и мы собирались. В 1909 году Борис Бабин сделал целый ряд докладов по поводу пятилетия смерти Михайловского. Оппонентами по идеологическим вопросам выступали социал-демократы, в частности, большевик Крыленко. После полемики они вместе шли домой (Бабин и Крыленко квартировали у одной хозяйки) и садились играть в шахматы. Партийные разногласия никак не влияли на личные отношения.
– Б.А., как вы себе представляли тогда: осуществится ли социализм при вашей жизни?
– На это мы не надеялись, но думали, что хотя бы программа-минимум осуществится. То есть, социализация земли, конфискация ее у помещиков. Затем рабочий контроль над производством. Ну и, конечно, широкие демократические и государственные свободы с легализацией всех партий. Ведь мы представляли себе, что необходимым компонентом для социализма должна быть свобода, личная свобода и свобода народа.
– А что вы называете социализацией земли? Чем социализация отличается от национализации?
– Национализация - это переход земли в собственность государства. А социализация - передача земли народу, который сам распоряжается ею, планирует и распределяет. Мы, например, думали, что земля будет распределяться подушно, по крестьянским дворам: сколько народу, столько наделов. Разумеется, учитывались и женщины. То есть, в чистом виде "черный передел": взять землю и поделить, а время от времени производить перераспределение, потому что семьи меняются. Для того чтобы не образовывалось кулачество, - полное запрещение наемного труда. А вся земля - в распоряжении крестьянских общин. Мы допускали, что останутся единоличники, но были сторонниками коллективизации - конечно, добровольной.
– Как вы приняли революцию 1917 года?
– Мы считали это своим делом, гордились вкладом партии в борьбу с царизмом. Ведь каждая партия имеет, как и человек, свою историческую судьбу. Главным делом эсеров была борьба с царизмом и его ликвидация.
Мы готовили Учредительное Собрание. Муж баллотировался в него от Дона, и мы уехали туда в Александровск-Грушевск (ныне Шахты), где он стал городским головой. Там мы жили до 1920-го года, т.к. домой проехать было невозможно. Но муж навлек на себя гнев генерала Краснова. Краснов даже сказал: "я его повешу". После этого пришлось уехать в Краснодар.
– А Октябрь 1917?
– Узнав об Октябре, мы сначала решили, что это узурпация. Я написала прокламацию, которую мы распространяли, издав в местной типографии, что большевики - не социалисты, что они предатели, изменники, т.к. изменили собственной программе и лозунгам. Тогда я мало что понимала. К расколу нашей собственной партии в 1917 году мы относились отрицательно, нам это казалось подрывом партии. Но мы, как и левые эсеры, хотели прекращения войны, исключения всех буржуазных партий из правительства.
– Просто насильственно выгнать?
– Исключить из правительства. Потому что они тянули назад.
– Как это сочетается с демократией?
– Революция вообще не демократична.
– Чтобы установить демократию в будущем, сегодня, в 1917 году, нужно принять целый ряд антидемократических решений?
– А жечь дворянские усадьбы демократично? Однако мы мешали крестьянам это делать. Надо было социализировать землю, и этого не было бы. Надо было тут же провести этот закон, который был у нас в программе-минимум, а так как в правительстве были буржуазные партии, конечно, это было невозможно. Проведи мы тогда этот закон, закончи войну - и не было бы никакой Октябрьской революции. Об этом пишет Рой Медведев, и я с ним совершенно согласна.
Я видела, что из Временного Правительства нет никакого толка, несмотря на то, что там министр земледелия Виктор Михайлович Чернов и другие эсеры. Кроме того, я находила очень неудачной кандидатуру Керенского в качестве премьер-министра. Я знала его лично. Он был прекрасный оратор, депутат Думы, великолепный юрист, бескорыстный защитник в политических процессах, субъективно очень честный человек, но чтобы управлять государством, совершенно не годился. Он был позер, болтун, для государственной деятельности у него не было ни воли, ни каких-либо способностей. Популярность эсеров в это время была очень велика, мы собирали больше всех голосов. В Учредительном Собрании эсеров было тоже громадное большинство. И если бы его созвали вовремя, не затягивая с юридическими тонкостями, было бы все гораздо лучше. Разгон Учредительного Собрания большевиками 5 января 1918 года мы восприняли как позор, хотя было понятно, что момент упущен. Советы уже закрепились, и Учредительное Собрание популярность потеряло. А что делать? Революция идет своим шагом. Но к большевикам наших симпатий это не увеличило.
– А когда зародились симпатии к левым эсерам?
– Когда я узнала об альянсе правых с Колчаком и позже с Деникиным. Редактором нашей газеты в Краснодаре был Григорий Ильич Шрейдер, бывший петроградский городской голова, но с Деникиным у нас никакого альянса не было, а у правых был - и с Колчаком, и с Пепеляевым.
– Это вы мне говорите о 1919 годе. А до этого было еще 6 июля...
– Об этом событии мы узнали уже из газет, но даже не обратили на него особого внимания. Просто показалась странной ссора между союзниками.
– А то, что в результате этой ссоры эсеров не стало в правительстве?
– Меня это не слишком взволновало.
– Когда же переменилось ваше отношение к большевикам?
– Это происходило постепенно, по мере нарастания критического отношения к нашим. Во-первых, альянсы с белогвардейскими генералами. Во-вторых, за границей было созвано совещание, на котором шла речь о борьбе с этим строем. Если ты уже все прошляпил, и власть, и все остальное, что было в твоих руках, так не осложняй ситуации и не начинай бесполезную борьбу. Альянсом с белогвардейцами, которого не должно было быть ни в коем случае, мы уже оскандалились. Правда, Савинкова исключили из партии. И, конечно, мои взгляды изменились после 1920 года, когда мы вернулись в Москву.
– А пока вы жили в Краснодаре?
– Власть в городе переходила из рук в руки, но, несмотря на это и на оторванность от центра, эсеры были довольно сильны. Я была членом городского комитета. Одна наша организация на Черноморском побережье пыталась бороться со Шкуро, который пробирался за границу - В.Н. Филипповский, Н.А. Шмелев, Ольга Сухорукова - почти вся будущая группа "Народ" - тогда это был "Черноморский комитет освобождения от белых". Я все время подбивала наших установить с ними контакт.
Деникинцы нас не преследовали, мы даже выпускали свою газету "Родная земля". То же и во время Кубанской Рады, и во время большевиков. Это был период терпимости. Другой вопрос, что мы жили только на журналистский заработок, не имели жилья, скитались с квартиры на квартиру.
Хуже вышло с черноморцами. Брат Юры Саблина сейчас написал книжку "Особое задание", где он смешивает с грязью этих людей. Но когда пришли красные, члены Комитета освобождения добровольно передали им власть. Несмотря на это большевики арестовали всех эсеров - среди них множество рядовых членов партии - крестьян, которые боролись со Шкуро. Их переправили в Краснодар, намереваясь затем отправить в Москву. Все эсеры находились в вагоне, стоящем на железнодорожных путях, под конвоем. Но обстановка была достаточно либеральной: Тугарину оставили гитару, и они проводили время весело. Я, как представитель городского комитета, пришла в Совет, и мне по карточкам отпустили на всех продукты. Я ежедневно отвозила их нашим заключенным и проводила с ними весь день.
В то же время в городской тюрьме сидел и наш товарищ эсер Володя Мерхелев с нелепым обвинением, будто он участвовал в расстреле 26 бакинских комиссаров. (Вообще, легенда1 о том, что в этом расстреле участвовали эсеры - неправда). В это время донесся слух, что фронт объезжает Орджоникидзе, и что его вагон стоит в Краснодаре. Мой муж посоветовал жене Мерхелева добиться свидания с Орджоникидзе, который довольно хорошо знал Володю по Баку. Пошли вместе, и попали в вагон. Орджоникидзе выслушал Володину жену и тут же дал ей записку к начальнику тюрьмы с просьбой освободить Мехелева, т.к. к расстрелу 26 бакинских комиссаров он не имел никакого отношения, и Орджоникидзе это точно знал. Володю тут же выпустили.
Я ходила в ЧК хлопотать за наших крестьян, и мне там сказали, что вскоре их всех распустят по домам. И вдруг началась паника, что якобы высадился мамонтовский десант. На самом деле он появился не в Краснодаре, а совсем в другом месте. Но большевики испугались. К своему ужасу вижу утром списки расстрелянных, где фамилии и этих черноморских крестьян-эсеров. Я побежала в ЧК: "Что же это? Ведь вы обещали всех выпустить!" - "Извините, неувязка..."
– Значит, Октябрь вы считали узурпацией, разгон Учредительного Собрания - позором, на ваших глазах расстреляли эсеров-крестьян, а сочувствие к большевикам у вас росло?
– Ну, это позже. В сентябре 1920 года, когда мы приехали в Москву, муж даже подал заявление о выходе из партии. Он сказал примерно следующее: "Наши оскандалились совершенно, и мы не должны мешать тем, кто хочет что-то сделать и наладить. Подождем, посмотрим, что у них (у большевиков) выйдет. А мы можем работать в других областях".
В частности, он работал в Институте труда, вместе с Гастевым организовывал этот институт. А я работала в Профинтерне, и это меня очень увлекало. Я работала в профинтерновском журнале и испытывала все большее сочувствие к большевикам, хотя и оставалась на идеологической платформе эсеров. Тогда в некоторых странах, особенно в романских, был силен синдикализм, который очень сходился с нами, и синдикалистские профсоюзы даже хотели вступить в Профинтерн. Я работала там вместе с Мстиславским, и наша работа заключалась в разъяснении идеологических разногласий. Тем не менее, меня даже приняли в Коммунистическую партию с зачетом партийного стажа с 1908 года. Правда, почти сразу же я поняла, что ничего у меня не выйдет - слишком различаются наши идеологии - и не стала брать партийный билет. Это было в 1921 году, после конгресса Профинтерна, и история эта впоследствии мне дорого обошлась.
– Какую партийную жизнь вы застали в Москве осенью 1920 года?
– Я застала там старых товарищей Филипповского, Гельфгота, который был членом ЦБ, его жену Елену Мариановну, мою хорошую приятельницу. Я приехала уже с четкими критическими настроениями. Этому способствовала моя работа в газете "Родная земля", которая для того, чтобы выходить, должна была быть очень умеренной.
Товарищи принялись меня переубеждать - дали подшивку "Революционной России" за несколько лет, чтобы я убедилась в несправедливости своей критики действий правых эсеров. Они хотели обмануть Колчака, вступить с ним во временный союз, а, укрепившись, вышвырнуть его. Фактически получилось наоборот: Колчак повесил 9 эсеров, которые с ним работали. Сын Лидии Лойко - я ее уже упоминала - был среди повешенных. После этого она оставила эсеровскую организацию, которой посвятила всю жизнь, и стала коммунисткой. Подшивка не убедила меня в их правоте.
– Значит, эти товарищи остались на позициях правых эсеров.
– Да, но партийной работой в этот период они не занимались, что называется, "зондировали" почву. Некоторые служили; Гельфгот, кажется, существовал на партийные средства.
– А кто еще был, кроме них?
– Была группа "Народ" - следующая по спектру после правых эсеров, и с ней у меня были очень хорошие отношения. Во время войны с Польшей эта группа создавала свои отряды и сражалась на стороне Советской власти. Они считали необходимым сотрудничать с большевиками. Правда, это не помешало большевикам вскоре их всех посадить.
– А что ваш муж?
– Муж с эсерами спорил, но услуги им все же оказывал. Например, в 1923, когда произошел расстрел на Соловках, нам принесли корреспонденцию об этом, и муж запаял ее в алюминиевый чайник. Этот чайник увез с собой заместитель Пешковой по Красному Кресту, и сведения о расстреле попали за границу. Среди наших нашелся какой-то провокатор, который на Бориса донес, и его снова арестовали.
– Значит, в 1921-22 вокруг вас большевики арестовывают меньшевиков, эсеров, а вы по-прежнему считаете их социалистами и братьями?
– Да, считала. Свое увлечение большевиками я объясняла вот чем. Время было трудное, шла гражданская война, причем эсеры в этой войне сражались на стороне белых. В этом плане мне казалось, что правота - за большевиками, как защитниками идей революции. Хотя, разумеется, аресты меньшевиков и эсеров настораживали.
Однако были и другие факты. В связи с делом Мирбаха, я считала, с левыми эсерами поступили довольно гуманно. За обстрел Кремля можно было получить и покруче. А им дали всего по 3 года и после этого ссылки на хорошие работы. Мы считали, что Ленин испытывал к ним симпатию, мысленно связывая с погибшим братом.
Конечно, многого мы и не подозревали. В конце 1921 посадили Гельфгота и его жену. Мы тогда еще не знали, что готовился большой процесс над эсерами. Правда, он не был похож на все последующие и ничем хорошим для большевиков не кончился. Это был суд, где люди вели себя как следует, они не признавали того, чего не было. Арестовали и нас с мужем, так что все мы встретились в тюрьме. Меня вскоре выпустили, а мужа - нет.
– Ваш муж должен был проходить по эсеровскому процессу?
– Нет. Хотя он был видным членом партии, сидел в тюрьме, но к процессу его не привлекли.
Я присутствовала на процессе. Товарищи оставили очень хорошее впечатление. Они здоровались со мной со скамьи подсудимых, и я им отвечала. Все было очень достойно.
– Догадывались ли вы, что процесс был фиктивным? Поверили ли вы в то, что Каплан - эсерка и стреляла по поручению ЦК?
– А как я могла не верить? Я потом говорила с Донским, и он убедил меня, что это не так. Хотя сейчас я в этом сомневаюсь.
Я знала, что была заграничная резолюция (по-моему, было мнение Чернова), что террор в отношении другой социалистической партии невозможен, что история нам этого не простит. И все-таки, я и сегодня до конца не уверена, что процесс был чисто фиктивным.
Я придаю большое значение воспоминаниям жандармского генерала Спиридовича об эсерах, и он, к сожалению, раскрывает многие неприятные мне стороны дела. Помните убийство Гапона? Это сделал Рутенберг. А дело Никитенко? Разве можно было вести себя так? Это напоминает методы большевиков.
Но тогда это все было не так очевидно. Как, например, освободили моего мужа после первого ареста? Я пошла к Крыленко, который хорошо был с ним знаком. Спрашиваю: "Долго еще мой муж должен сидеть без всякой причины?" Крыленко сказал: "Ваш муж - человек, которого я очень уважаю и люблю. Передайте ему, что у меня о нем самые лучшие воспоминания". - "Муж сидит уже около года!" - "Вы можете дать мне слово революционера, что не занимаетесь активной вооруженной борьбой?" - "Могу". - "Больше мне ничего не надо. Будьте спокойны, ваш муж скоро будет дома". И через день мужа освободили. Это было в декабре 1922 года.
Или еще одна история. В начале 1925 года мужа моего снова выпустили из-под ареста (тогда уже он сидел в связи с Соловками). Моему сыну тогда было 13 лет. Они вместе с сыном Гельфгота решили отомстить за старых революционеров. Мы ни о чем не догадывались, у них была строгая конспирация. Они отправились в Прокуратуру РСФСР, и сын подал записку с просьбой, чтобы его принял прокурор по надзору за ОГПУ Катанян, поговорить о деле своего отца, участника Московского восстания. Сын Гельфгота остался ждать внизу, а мой сын отправился наверх. У него был маленький "бульдог", куда он налил глицерину, считая, что это одно и то же с нитроглицерином и что от этого револьвер лучше будет стрелять. Мальчик подошел к столу Катаняна, где сидел его заместитель Зеленин, и направил на него свой "бульдог". Тот полез под стол от страха. Моего сына сразу схватили, привели второго компаньона - Мишу Гельфгота. Мальчиков заперли в одной из комнат. А мы дома ничего не знаем и волнуемся: ночь, а сына нет дома.
За нами пришли и увезли в тюрьму. К арестам я тогда уже привыкла. Вызывают на допрос к следователю Вере Браудо, бывшей эсерке, прославившейся своими следствиями по эсеровским делам. Потом она умерла в Воркуте. Она меня спрашивает: "Как вы воспитываете своих детей?" Я удивилась: "Какое вам до этого дело?" Тут она и рассказала, что сделал мой сын. Я была настолько ошеломлена, что она сразу поверила в мою непричастность и тут же дала мне свидание с мальчиком. Ему потом пришлось очень трудно - он жил у моего отца и брата, т.к. нас сослали в Коми на 3 года. К 10-летию Октября мы были амнистированы, но в Москву вернулись лишь в феврале 1928 года.
И даже в 1933 году, когда меня снова посадили и отправили в Ивановскую тюрьму, муж обратился к Емельяну Ярославскому, с которым они вместе сидели когда-то в Бутырках на разных этажах и вели интереснейшую переписку по идеологическим вопросам. Ярославский позвонил в ОГПУ, и меня сразу выпустили, даже 3 рубля дали на билет. Лозовский за меня заступался перед ЦК в 1922 году. Тогда еще были живы традиции.
– Вернемся назад, в 1920-й год. Вот вы приезжаете в Москву. Эсеры ничего не делают, вокруг разброд...
– Потом выяснилось, что делом занято другое поколение - молодежь: Олицкая, Павел Егоров и другие. У них даже была типография. Но они сразу же попадались. А старики бездействовали.
– Считали ли вы в этот период, что надо вести борьбу с большевиками?
– Ни я, ни муж не считали это необходимым. Мы полагали, что исторически мы проиграли, оскандалились и, раз так, не надо соваться. Мы всегда понимали, что Россия - некультурная страна и что режим большевиков - тоже некультурный. Но мы, культурные, прозевали революцию, и это был страшный комплекс, который мы не могли преодолеть. Была власть в руках и можно было что-то сделать, но не смогли, отдали им власть, так уж надо помалкивать. Нам все же казалось, что они смогут построить в России справедливый строй, а то, что сейчас происходит - издержки гражданской войны.
– Значит, вы мирились с репрессиями против вас?
– Не то что мирились, но принимали это нормально, считали, что это нам историческое возмездие за наши вины.
– А с репрессиями против "каэров", представителей буржуазных партий - тогда их как раз отправили на Соловки - тоже мирились?
– Конечно, с большой легкостью. Грешным делом, мы об этом даже не думали.
– А священники?
– Конечно, это было глупо. Мы считали, что это просто ограниченность большевиков.
– И все-таки, если не сравнивать с 1937 годом, эти репрессии были значительны. Как же вы к ним относились?
– Расскажу вам следующее. Вот жена моего двоюродного брата - генеральская дочка. Когда их с сестрой в первый раз арестовали, мы думали, что это за происхождение, и очень им сочувствовали. Просидели они тогда примерно три месяца. А в 1937 году я встретилась с ней в Бутырках, и она мне рассказала настоящую причину первого ареста. Приехал из-за границы их дядя, полковник, бывший белый. Он привез с собой драгоценности, которые они должны были продать и на эти деньги купить оружие для каких-то диверсионных актов. Так что большевики бывали и правы. Это было в конце 1920-х годов.
– Да, но в целом?
– В целом мы все-таки считали, что большевики дали заявку на построение социализма. Правда, нас насторожили потом коллективизация и раскулачивание. Здесь уже все было не так, как надо. Но мы считали, что это временные явления. Масштабов мы, конечно, не представляли себе. Муж мой считал, что надо сохранять идеологию, что она будет возрождаться. Он любил повторять евангельскую фразу "сохранять масло в светильниках". С этой точки зрения мы и вели свою работу. Я распространяла книги, в которых наиболее рельефно выражалась наша идеология.
– И как на это реагировали большевики?
– Я была арестована в 1925-м, получила 3 года ссылки, затем немного пожила в Москве. В 1931 году меня снова арестовали и затем выслали на 3 года в Алма-Ату. Меня арестовали за распространение книги Камкова "Уроки Парижской Коммуны" и Чернова "Конструктивный социализм". У нас в доме бывал провокатор - эсер Шапиро, муж левой эсерки Маруси Боченковой.
– Значит, практически все эсеры, не отказавшиеся от партийной работы, к концу 1920-х годов уже были в ссылках?
– Да, большинство уже сидело. Я, случайно оказавшись в это время в Москве, между двумя арестами, сообщалась с Екатериной Павловной Пешковой, и мы помогали кое-кому через Красный Крест. Но реально деньги не у кого было собирать, и мы отдавали личные.
– А легалисты существовали?
– До 1924 года. Их лидером был Исаак Захарович Штейнберг. Они были против выступления в июле 1918. Они отказывались от подпольной борьбы, ограничиваясь только проведением своих взглядов через печать. Хотели быть только оппозиционной партией. Им разрешили на некоторое время легальное существование, и даже издание журнала "Знамя труда". Вообще было бы разумно, если бы все левые эсеры встали тогда на эту точку зрения. Фактически же левые эсеры участвовали почти во всех крестьянских восстаниях. Та же антоновщина - это была не контрреволюция, а крестьянское восстание, протест против этой безобразной продразверстки. Но вскоре лидеры легалистов уехали на съезд трех Интернационалов, и организация развалилась. Шрейдер потом покончил с собой в Берлине.
– Было ли какое-нибудь место, где реально обсуждались партийные дела?
– Разве что в тюрьме. В основном идеология, а не дела. Настоящих дел уже не было.
– Но приходили же к вам гости и, наверное, обсуждали: что делать?
– Было уже ясно, что делать нечего. Террористических актов против большевиков мы не признавали, хоть нас и обвиняли в этом. После начала НЭПа была вообще очень странная ситуация: с одной стороны, вроде бы они отошли от социалистических идей, но, с другой, это же был единственный выход из положения.
– Значит, когда вы вернулись с Юга, эти полтора года до ареста практически ничего не делалось?
– Да, это было время разброда. Ходили, смотрели на настоящее, обсуждали свои прошлые ошибки. Мы были страшно травмированы своей неудачей. Партия имела в руках власть и так глупо, непростительно ее упустила.
– А ваши лидеры? Камков, например?
– Камков был теоретик. Революция для него была важнее всех других вещей. Он голосовал за 6 июля, был одним из инициаторов его. Вместе с другими, конечно. Прошьяном, например. Вообще ЦК левых эсеров тогда раскололся пополам. Большинство его членов было против. Такие, как Спиридонова. Но их убедили Камков и Прошьян. В 1929 году, когда я в последний раз видела Камкова, у нас с ним был разговор о большевиках, и он мне сказал: "Мы раньше вас знали, что они социалисты, когда вы еще протестовали, а теперь мы раньше вас знаем, что они уже не социалисты". Думаю, что решающим моментом для него здесь была коллективизация.
– А была ли у Камкова идея подпольной борьбы?
– Нет. Для подпольной борьбы должна быть социальная среда, сочувствующие. Нельзя же это делать на пустом месте. Простить себе не могу: он просил организовать ему побег за границу, а я не смогла. Может быть, тогда он был бы жив.
– А Спиридонова?
– Со Спиридоновой мне так и не удалось лично встретиться. В 1930 году она проезжала Москву. На вокзале ее и Измаилович встретила машина ОГПУ, покатала по городу и отвезла в номер гостиницы "Савой" - тогда это была гостиница ОГПУ. В Москве в это время жила жена Камкова, и мы с ней решили непременно повидать Марию Александровну. Муж мой сказал, что я должна идти, "нечего с ними считаться", а сын Игорь, очень практичный молодой человек, ходить не советовал.
Я пошла. У подъезда гостиницы какой-то человек положил мне руку на плечо и сказал: "Следуйте за мной". Привел он меня на Лубянку, в знакомую комнату к следователю Шульману - он специализировался по нашим делам. Неплохой человек, не чета этим, тридцать седьмого года. - "Зачем же вам надо было идти к Марии Александровне?" - "Я знаю о ней с детских лет и хотела с ней повидаться. Разве в этом есть что-нибудь предосудительное?" - "Очень, очень жаль, что вы к ней шли".
Жену Камкова тоже задержали. В общем, мы просидели сутки во Внутренней тюрьме Московской области вместе с несчастными женами инженеров. Когда ушел поезд Спиридоновой, нас отпустили домой. Так я никогда и не встретилась с Марией Александровной. Но мы с ней переписывались. К сожалению, эта переписка не сохранилась.
– И по переписке можно судить о ее позиции?
– Она была очень лояльна. Считала, что у большевиков что-нибудь получится. Когда я была в ссылке в Казахстане, она мне писала, что очень приятно видеть возрождение такого угнетенного народа, что начинается культурное возрождение.
– Но не может же быть, чтобы она приняла коллективизацию?
– Коллективизацию никто из нас не принял.
– Сейчас среди эмиграции (да и многие из молодежи так считают) распространено мнение, что большевики, меньшевики, эсеры - одно и то же. Если бы к власти пришли другие социалисты, они тоже пересажали бы и перестреляли половину страны.
– Нет, такие репрессии были бы невозможны, поскольку у нас совершенно другая политическая концепция. Страна шла бы к демократии, и никаких запрещений, даже для большевиков, не было бы.
– Очевидно, это одна из причин того, что вы и не пришли к власти... Как вы считаете, правильно ли сделали, когда после июльских событий выпустили большевиков?
– Безусловно правильно. Нельзя было себя вести так, как ведут себя они, - надо все-таки сохранять свое лицо.
– Так как же вы не видели лица большевиков? Даже первые вредительские процессы - Шахтинский, Промпартии - вы же понимали, что это сценарии. И все равно не было полного отрицания большевиков?
– Наверное, это был какой-то гипноз слова "социализм". Теперь я сама этого не понимаю. И все-таки было реальное сравнение с прошлым режимом. Все-таки была ликвидирована частная собственность на средства производства, было бесплатное образование, медицинское обслуживание. И, конечно, национальный вопрос - до революции с нами, евреями, дело обстоял очень плохо. Мы во всем этом видели поступательное движение к социализму. Сравнение с прошлым давало надежду, что что-то произойдет.
– Какие разговоры велись в ссылках?
– Среди нас были левые эсеры, даже один член ЦК - Яков Вениаминович Браун, анархисты с их кашей в голове и беспредметно агрессивным настроением, во второй ссылке - меньшевик Владимир Александрович Липкинс. Были и правые эсеры. Споры велись по многим вопросам, в частности, о, коллективизации. Уже многие были настроены значительно более скептически по отношению к большевикам. Но, конечно, о каких-то реальных действиях не могло быть и речи, - какие могут быть действия в безвоздушном пространстве? В общем, все хотели "сохранять масло в светильниках" и только ждали окончания сроков. Передавалась какая-то идеологическая эстафета, "проветривались" мозги.
– Представляли ли вы тогда, что сидеть придется всю жизнь?
– Конечно, нет. Наоборот, мы считали, что большевики переродятся, и наступит настоящий социализм.
– Если бы тогда, в тридцатые годы, у вас спросили, кто вы по воззрениям, что бы вы ответили?
– Ответила бы, что я социалистка.
– А какова судьба Тугарина?
– Он умер. Его сослали в Воронеж, но он был тяжело болен туберкулезом. Я провожала его к семье во Владикавказ. Очень грустно было его оставлять. Вскоре он умер.
– А кто еще был в группе "Народ", кроме Тугарина?
– Буревой. Он, кажется, расстрелян.
– Социалисты-революционеры, особенно мужчины, наверное, погибли все?
– По-моему, вообще все старые интеллигенты-мужчины погибли.
– Не совсем так. Я встречал кадетов, октябристов, а эсера - ни одного. Графов, князей вокруг полно, а вот эсеров - ни одного. А ведь в России аристократов было меньше, чем эсеров?
А как вы относитесь к расстрелу царской семьи?
– Романовы, конечно, заслужили кары, революция имела право поступить с ними так. Но уж больно неэстетично большевики это сделали. Во Франции это было гораздо приличнее.
– Однако вернемся к основной теме разговора. Если посмотреть на репрессии 1920-х и 1930-х годов, то мы увидим довольно странную картину. По отношению к "бывшим" репрессии были значительно менее целеустремленными, чем по отношению к социалистам. Чем вы это можете объяснить? Почему против эсеров и социал-демократов репрессии были такими четкими - ни одного человека нельзя было оставить на воле, если он оставался убежденным человеком?
– Братоубийственная война страшнее всех войн. Социалистов вырывали с корнем, потому что боялись их влияния на массы. Конкуренция! Несмотря на то, что социалисты уже к 1923-24 году ни о каком влиянии не помышляли, большевики их все же боялись! Я про это даже стихотворение написала:
Врага нет злее, чем вчерашний брат,
Когда он поднял грозный меч на брата.
Пройдут века, и ворохи цитат
Расскажут, как за ереси когда-то
На смерть и муки обрекли людей...
Теперь, в изгнанье, слушая злословье,
Я молча думаю, и в памяти моей
Горят угрюмые костры средневековья.
В ревущем пламени сгорают колдуны,
Пророки, воины, студенты и поэты...
Прошли столетия, исканьями полны,
И вновь процессы. В ватники одеты,
Еретики влачат свой горький век.
Остался ты таким, как прежде, человек.
Но тогда... Вы вспомните, в какие это было годы! Существовал гитлеризм. У меня был знакомый еще по конгрессу Профинтерна испанец Армандес. Еще во время конгресса фашисты убили в Испании его брата, и он потом стал коммунистом. Я спросила: что же вас заставило перейти от синдикализма в социалистическую партию? Он ответил: "Жизнь заставила. У нас не было возможностей ни работать, ни издавать газету, а от коммунистов мы имеем реальную помощь". Действительно, я знала о секретных фондах коммунистов, из которых те помогали профсоюзам. И не только своим подконтрольным, а и синдикалистским. Советы казались нам опорой против Гитлера, хотелось забыть о разногласиях. Такая ситуация нас сильно деморализовала. Мне когда-то говорил Айтматов: "Я, конечно, все понимаю и во всем отдаю себе отчет, но если бы победила та сторона - страшно подумать, что было бы с нашими национальными республиками..."
Потом Конституция, 1936 год. Мы, конечно, никаких иллюзий не питали уже, но то, что они написали в своей Конституции о демократии, сыграло большую роль. Дан за границей начал чуть ли не расхваливать большевиков, говорить, что они идут по правильному пути. А во время войны он агитировал, чтобы сражаться на стороне СССР. И хотя мы здесь отчетливо понимали: сталинские уверения, что социализм будет построен через два года, что социализм уже построен, - чушь собачья и чистейшей воды демагогия, - а надежды все-таки оставались. Конечно, мы понимали, что это не тот социализм, который нужен. Я и сейчас считаю, что это какой-то очень грубый, скверный вариант социализма, от которого надо бежать, как от чумы. Этот "социализм" совершенно отвратил молодое поколение от идеи социализма.
– В чем же основной недостаток этого социализма?
– Прежде всего в том, что основной компонент социализма - свобода, а у нас ее нет. С точки зрения экономики это, скорее всего, похоже на государственный капитализм. В нашей идеологии государству отводилась минимальная роль, а у них государство - это Левиафан, который все себе подчиняет. У них централизация, а мы вообще - не сторонники централизации.
А теперь это вообще выродилось в сословный строй: у нас есть сословие, которое живет совершенно иначе и экономически, и в бытовом отношении, куда не пускают остальных людей. Ведь этого не было раньше. Все жили одинаково. Был партмаксимум. Моя подруга Яна Козловская, дочь председателя Малого Совнаркома, видного деятеля 1917-18 годов (к его счастью, он умер довольно рано, в 1927 году), вместе с отцом жила в Кремле рядом с семейством Микояна. У Микояна было много детей, а у Козловского всего двое - Яна и ее брат (впоследствии расстрелянный в Орловской тюрьме вместе со Спиридоновой). Жена Микояна, имея шестерых детей, не могла работать. А у Козловских работали и мать, и отец. Жена Микояна из месяца в месяц приходила к ним занимать деньги, потому что у них не сходились концы с концами. Тогда, в 1920-е годы, они жили как и все советские граждане.
– Скажите, а как развивалось ваше отношение к Сталину?
– Сначала, когда он был продкомиссаром в Царицыне, мы его не замечали. Потом он арестовал всех оппозиционеров, нас это вроде не касалось. Даже в 1934 году, когда убили Кирова, мы еще не знали, что это его рук дело. В день похорон Кирова, когда в знак траура гудели гудки всех заводов, муж еще иронизировал: "Вождь горюет". Мы все думали, что это убийство - дело рук оппозиции.
– А как вообще относились к оппозиции?
– К Бухарину относились положительно, а к Троцкому и троцкистам - отрицательно. Потому что Троцкий - это та же разновидность, что и Сталин, только культурная разновидность: такой же деспот. К аграрному вопросу он относился так же, как и Сталин. Конечно, он не устроил бы 1937 года, но хорошего от него трудно было ждать.
– Когда для вас Сталин выступил как отдельная фигура?
– В середине 1920-х годов, когда начались аресты.
– Вы понимали, что все это делается с его санкции?
– Да, конечно. Но после 1937 года мы его уже ненавидели.
– А до этого что, посмеивались?
– Ну, когда происходила коллективизация и раскулачивание - тут уж было не до смеха. Еще в 1929 году Камков мне сказал: "Сейчас они все перегрызутся, начнут поедать друг друга. А когда это сделают - примутся за нас".
– А как вы относились к Ленину?
– К Ленину я всегда относилась и отношусь положительно. Это был целеустремленный человек, который твердо знал, чего он хочет, и что будет делать его партия во время революции. В этом счастье большевиков. У нас, к сожалению, не было такого человека.
– Ну, а продразверстка?
– Это, конечно, ужасная вещь. Плохо, что они отыгрались на крестьянстве, но ведь страна была в очень тяжелом положении.
– А арест эсеров, это же производилось тоже с его ведения?
– И все-таки после процесса всех выпустили. Троцкий считал, что всех надо расстрелять. Эсеров приговорили к смертной казни, полтора дня во ВЦИКе были прения: что делать, потому что эсеры не подали заявления о помиловании. Когда начали голосовать, то за расстрел было только два голоса - Троцкий и Дзержинский. Все окончилось благополучно благодаря Ленину. Так что я его расцениваю положительно как политического деятеля. Счастье большевиков, что у них был Ленин.
– Ну а принес ли он счастье России?
– Если бы Ленин жил дольше, то обстоятельства сложились бы значительно лучше. Во-первых, долго был бы мир. Ленин был очень гибким политиком. Мой муж слышал речь Ленина о НЭПе, которую тот произнес на общественном активе. Ленина спросили: "Сколько времени будет существовать НЭП?" - "Сколько будет надо, чтобы страна вышла из тяжелого положения, - ответил Ленин, - может быть, даже пятьдесят лет".
– В принципе, вы к НЭПу относились положительно?
– В принципе, да. С одной стороны, это было отступление к буржуазным порядкам. Но, с другой, эта политика являлась очень убедительной. Ведь экономика была в плачевном положении.
– Значит, вы говорите: Ленин - замечательный вождь, он знал, что будет делать завтра. А расстрелы, а "красный террор", а аресты социалистов, а продразверстка - это что, издержки революции?
– Да, революции и гражданской войны.
– Так что вы не видите никаких отрицательных сторон в Ленине?
– Вижу. Во-первых, он насадил систему, которая потом обратилась против всех завоеваний революции - систему однопартийной диктатуры. И все-таки при культурном диктаторе - Ленине - это имело совершенно иной вид. Все-таки положение РСФСР было очень тяжелое - по всем фронтам.
– Если бы при вас обсуждали план террористического покушения на Ленина, каково было бы ваше мнение?
– Резко отрицательное.
– А если бы обсуждалось покушение на Сталина?
– Тоже против. Потому что такой акт поставил бы под удар очень многое в стране.
– А если бы покушение на Сталина готовилось уже в 30-е годы? Я понимаю, что ситуация абсолютно придуманная, и все-таки?
– В принципе, я до сих пор удивляюсь, как могли его терпеть товарищи по партии и почему его никто не застрелил. Почему Орджоникидзе должен был выстрелить в себя, а не в него? Если бы Сталина убили, я бы абсолютно ничего не имела против. Была бы очень довольна. Но против покушения на Ленина я бы возражала, особенно если бы это было поручено представителю эсеровской партии.
– Но ведь Сталин тоже был лидером социалистической партии?
– Он был исключительно мерзкой личностью. И все-таки мы не планировали его убивать.
– А ваши лидеры? Например, Чернов?
– Чернов не является для меня образцом социалиста. Талантливый теоретик, прекрасно писал, но в личной жизни вел себя недостойно социалиста. Во время революции лидер партии, министр земледелия, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом, крутит роман и меняет жену - это недостойно. Как вождь он совсем не удовлетворял никаким требованиям, просто хороший теоретик. Вождем у нас мог быть Савинков, но он был совсем другой ориентации. И потом, это был совсем аморальный человек, у него не было этики. Помните, он проповедовал: "Почему нельзя убить мужа своей любовницы, но можно убить министра? Если вообще можно убить человека, то безразлично, кого и по каким мотивам". Это он нам преподнес в 1909 году. Вся наша эсеровская молодежь была глубоко возмущена.
– А чем вы объясняете, что современная молодежь - в основном правых убеждений?
– Социализм в их глазах полностью скомпрометирован. Это очень грустно. Они сторонники только буржуазной демократии. Советский вариант им противен. А других они не видят.
– Почему, по-вашему, среди молодежи так распространены религиозные настроения?
– Они проходят через то, через что прошли и мы. Это связано с упадком интереса к политике. Так было после 1905-1906 годов. И тогда, как и сейчас, переживалась так называемая "сексуальная революция".
– А как же в шестидесятые годы?
– Тогда интерес был велик. Это была реакция на 1937-й. В частности, очень активно переживались события в Чехословакии. А теперь, видимо, решили, что политика - грязное дело, которым никогда не следует заниматься.
– А социализм, значит, самый грязный вариант политики?
– Я сама считаю, что политика - грязное дело. Но не считаю таковым социализм. Я до сих пор верю в возможность "социализма с человеческим лицом".
– И может ли, по вашему мнению, у нас возникнуть общество, воплощающее ваши идеалы?
– Долго не сможет. У нас для этого нет прецедента. Народ не имеет демократических традиций. Из крепостного права мы перешли в романовщину - самодержавие, после революции какое-то короткое время - лет пять - были относительные свободы, но вслед за этим - диктатура Сталина. Откуда у народа могут возникнуть демократические традиции?
– То есть, вы считаете, что переход к истинному социализму возможен только через демократию какого-либо типа?
– К сожалению, это так. Ведь левые, да и вообще все эсеры считали, что в России возможно построение социализма минуя буржуазную демократию. В действительности оказалось, что правы меньшевики, говорившие, что нельзя миновать никакую историческую фазу развития.
– Я читал в "Соцвестнике", что в 1952 году состоялось объединение двух заграничных партий социалистов - "эс-де" и "эс-эр". Это объединение долго готовилось. Там были Чернов, Зензинов, с одной стороны, а с другой - Николаевский, Далин и кто-то еще. Они создали некую единую социалистическую русскую партию. Как вы считаете, разделение на разные партии не раздробило ли силы социалистов и не смогли бы они, если бы не раздробились на 24 фракции, создать после 25 октября какую-то умеренную оппозиционную программу?
– Мне кажется, это нереально. Слишком разнятся взгляды марксистов и немарксистов.
– Но к меньшевикам, во всяком случае, у вас сохранилось чувство уважения?
– Безусловно. Теоретически они очень знающие люди, только слишком пассивны. И потом, они тоже централисты, но в меньшей степени, чем большевики.
– Ваши нынешние взгляды на социализм остались такими же, как и 70 лет назад?
– Конечно, нет. Надо же принимать во внимание все то, что произошло за эти годы. Когда в России говорили о социализации земли, то не было еще такой техники, как теперь. Теперь уже не перейдешь к единоличному хозяйствованию.
– А в целом? Есть люди, считающие, что социализм - некое этическое учение, причем не имеет значения ни эксплуатация, ни у кого какая собственность, а главное - чтобы соблюдались некоторые этические правила равенства человека человеку.
– Это обязательная вещь, но только один из компонентов социализма. А вообще я считаю, что только социализму предстоит по-настоящему реализовать лозунг "Свобода, равенство, братство".
Примечания
1 В нашем распоряжении имеется и иное толкование упомянутого события, высказанное В. Томсинским: ""Легенда" эта имеет некоторую реальную основу. С-р'ы, как партия, отношения к расстрелу не имели, но к нему имел отношение тогдашний глава Закаспийского правительства, рабочий-железнодорожник, с -р. Ф.А. Фунтиков. В феврале-марте 1919 обстоятельства расстрела по собственной инициативе расследовал чл. ЦК ПСР Вадим Чайкин. Фунтиков рассказал ему, как члену ЦК своей партии, все известные ему детали. Результаты своего расследования Чайкин опубликовал сначала в бакинских газетах (11-12 марта 1919) и "Известиях ВЦИК" (25 июля 1920), а затем в виде небольшой брошюры (Чайкин В. К ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. М., 1922, вып. 1), в которой привел свою версию рассказа Фунтикова. Последнего в 1925 арестовали, а в 1926 судили и расстреляли. В основе обвинительного заключения лежала брошюра Чайкина. Сам Чайкин после 1937 был в Орловском изоляторе, где и был расстрелян перед эвакуацией тюрьмы в 1941. Хотя de mortuis nil nisi bene, должен сказать, что Чайкин - я его встречал, - был гаденький человечек. В начале 1930-х он был в ссылке, - никто с ним не общался". - Прим. ред.