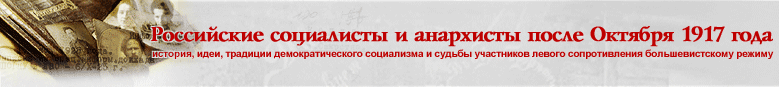
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Мартов и его близкие
| предыдущая | содержание | следующая |
Семья
(Из воспоминаний)
РОДИЛАСЬ я 21-го мая 1878 г. в Одессе, куда родители мои переселились из Константинополя, где отец служил в Обществе Пароходства и Торговли. Всю свою молодость он провел на Востоке, в Бейруте и Константинополе, где и женился на совсем молоденькой девушке, которой не было и 16 лет. Сам он был более чем вдвое старше ее. Почему он попал на Восток, я не знаю, но очень хорошо помню его частые рассказы об его тамошней жизни, о Турции, которую он очень любил и о которой, я думаю, давал нам чрезвычайно стилизованную благоприятную характеристику, необычайно преувеличивая ее «демократию». Я не думаю, не помню, во всяком случае, чтобы он употреблял это слово (да в те времена оно и не было таким «ходовым» словом!), но совершенно уверена, что он был большим почитателем демократии и всем мам всеми силами старался привить такое же отношение. Он часто рассказывал нам о свободе религии, которая, по его словам, царила в султанской Турции, о почете, которым, наравне с служителями других культов пользовался Главный Раввин и т.д.; но о религии у нас в доме вообще говорили мало. Родители в синагогу не ходили или ходили очень редко, а нас и новее не водили, но тем не менее мы знали, что мы — евреи и чем-то очень отличаемся от окружающего нас русского, православного мира; отличаемся при этом в какую-то лучшую сторону. Нам часто говорили, будто среди евреев нет пьянства, очень мало «дурных» болезней (мы никогда не слышали, от каких причин бывают «дурные» болезни, но смутно подозревали, что они могут быть только у «дурных» людей или от «дурной» жизни) что среди евреев, будто нет неграмот- {7} ных, и последнее очень импонировало нам, так как вера в знание, в просвещение была очень крепка у нас у всех сызмальства.
Отец умел хорошо рассказывать и любил это, мы же, дети, охотно слушали его рассказы и всегда старались устроить так, чтобы после обеда не дать ему прилечь, а собраться у него в кабинете на большом диване и норовили задавать ему столько вопросов, что он не знал, как и кому отвечать первому. При этом неизменно присутствовала мать и почему-то «не допускалась» гувернантка, что нам всем, конечно, доставляло большое удовольствие, да, вероятно, было не лишено некоторого удовольствия и для нее. К сожалению, такие вечера были редки, чаще папа ложился «отдыхать», после чего приходили какие то знакомые, садились за карты — играли в винт, вели какие-то разговоры, при которых нам не полагалось присутствовать; мы и чай пили в таких случаях отдельно, без больших, только с гувернанткой и с няней.
Турцию моему отцу пришлось покинуть в 1877 году в связи с русско-турецкой войной. Переехали в Одессу. Было уже трое детей. Для моей матери в Одессе все было чуждо — начиная с языка, по-русски она не говорила и не сразу научилась ему. Еще долго домашним языком был французский (а в Константинополе и греческий — язык домашней прислуги в те времена в Турции). Сколько я знаю, по-турецки моя мать не говорила, а отец, кажется, не говорил и по-гречески — в том обществе, где он вращался, было совершенно достаточно французского и английского, а этими языками, как и немецким, он владел в совершенстве.
В Одессе постепенно языком семьи становился русский и, в конце концов, этот язык стал единственным, на котором говорили между собой мы, дети, но родители говорили между собой по-французски или по-немецки, так как для матери до конца ее дней русский язык оставался чужим, хотя она говорила на нем свободно и даже без всякого акцента, но читала с трудом, а писать и вовсе не научилась, что впоследствии, когда мы сидели по тюрьмам, всегда было источником всяческих затруднений: она не могла писать нам по-русски, а французских писем не пропускала жандармская цензура! Да и с нами, старшими девочками, она почему-то часто говорила по-французски, особенно, в минуты строгости и выговаривавший по случаю каких-нибудь наших провинностей...
Мать никакого общего образования не получила; сирота с очень раннего возраста, она была взята на воспитание дядей, {8} ювелиром в Константинополе, салоникским, как и она сама, евреем. Дядя и тетка были бездетны, но почему-то воспитывали ее не у себя, а поместили в католический монастырь, так как в те времена в Константинополе не было женских учебных заведений; в монастыре ее обучали, как и других «девиц из хороших семейств», преимущественно хорошим манерам, кое-какому рукоделию и музыке; в смысле религиозном не стесняли. Вероятно, там же она и усвоила языки — французский, немецкий, английский, а может быть, двум последним научилась позже; к языкам она была способна, благодаря очень хорошему слуху и общей музыкальности; она быстро научалась языку, говорила правильно, но никакой грамматики не знала. Кажется, плохих воспоминаний об этой полосе своей жизни она не сохранила, но почему то не любила нам рассказывать о своей жизни в монастыре. Выйдя из монастыря, шестнадцати лет, она тотчас же вышла замуж за моего отца. Скоро появились дети и она долго не знала, как взяться за их воспитание.
Никого из родных матери мы не знали, да и не было у нее родных в России; помню, в нашем старом альбоме среди массы разных карточек была карточка ее сестры — красивой, еще молодой женщины, в восточном наряде, давно умершей; были карточки и ее детей, дочери и сына, живших в Англии. Фамилии их мы не знали, а, может, и знали, но я совершенно забыла. О прошлом матери мы знали вообще очень мало; она редко о себе рассказывала и я не знаю, чем это объяснялось. Мы знали только, что она осталась рано сиротой, родители ее жили в Вене, были сефардами, то есть потомками евреев, когда-то изгнанных из Испании и поселившихся в Салониках. Некоторые особенности старого быта они, видимо, сохранили; было что-то и в привычках моей матери, что отличало ее очень заметно от семьи моего отца, «литваков», как почему-то несколько пренебрежительно она их называла.
Почему ее родители из Салоник перебрались в Вену, я не знаю, как не знаю, почему переменили после Вену на Константинополь ее дядя и тетка, у которых она росла, вернее, которые взяли ее и ее сестру на свое попечение после смерти их родителей и затем поместили в монастырь. По словам матери, и дядя и тетка любили, особенно, ее, как полную. В монастыре ее не заставляли ни молиться вместе с католичками, ни учить катехизис. У нее был недурной голос и она иногда пела в церковном хоре, о чем тоже не любила вспоминать.
Моя мать была очень красива, в 16 лет, вероятно была {9} очаровательна и нет ничего, удивительного, что отец, увидав ее, сразу влюбился; был он значительно старше ее, гораздо более образован; видавший свет. Мать вышла за него, думаю, без особой любви, но скоро привыкла и искренно привязалась к нему. Во всяком случае, она была ему в жизни верным товарищем и другом, и прожили они больше 30 лет в полном согласии.
Выходя замуж, она не имела никакого представления ни о реальной жизни, ни о супружеской, в частности. Раз она рассказала мне и сестре, что, выходя замуж, вообще совершенно не представляла себе, что значит — быть замужней женщиной. Замуж она шла охотно, так как думала, что будет «очень веселиться и много выезжать». А что касается супружеской жизни, то единственное, что могла ей сказать тетка — это посоветовать «всегда держать под подушкой гребенку и просыпаться раньше мужа, чтобы успеть привести в порядок свою богатую и затейливо убранную шевелюру, так как мужья очень не любят видеть жену растрепанной»... Вот с таким житейским опытом моя мать вступила в жизнь. Было это в январе 1870 года.
В первые годы своей семейной жизни, среди многочисленной прислуги, обеспеченная, она немногому научилась. Первый ребенок родился уже через год, но и он внес мало из менения в веселую беззаботную жизнь молодой матери.
Появление на свет первенца мало изменило ее светскую жизнь. Взяли кормилицу-гречанку и мать могла по-прежнему всей душой отдаваться прогулкам, визитам, вечерам. И нельзя сказать, чтобы она не любила своего сына, нисколько, просто она не знала, как за него взяться; тетка, никогда не имевшая детей, не могла давать советов, обращаться к врачу относительно «здорового» ребенка в те времена не было принято и пришлось молодой женщине самой взяться за «воспитание».
Едва ребенок научился сидеть, его стали сажать за стол со взрослыми, «чтобы он с самого раннего детства научился хорошим манерам», как объясняла нам впоследствии мать; давали ему есть все, что ели взрослые. Я до сих пор понять не могу, как мой старший брат, Мориц, пережил это испытание: стол у моих родителей был всегда на восточный манер, все блюда сдабривали перцем, разными пряностями и т.д. И, если он, за отсутствием зубов, и был избавлен от бифштексов, и ростбифов, то мясные острые супы и тому подобные яства получал постоянно и даже, по-видимому, никакого злого {10} расстройства желудка от этого не нажил. Так как за столом пили вино, то и он получал свою порцию. «О, совсем немного!», успокоительно говорила моя мать, когда моя сестра, страстная последовательница проф. Лесгафта, накидывалась на нее за безобразное воспитание, которое, в большей или меньшей степени, получали мы все.
Через два года, 12 ноября 1873 г. родился второй сын, Юлий. Его тоже кормила кормилица, но он, по-видимому, не так рано был приобщен к светскому воспитанию; то ли достаточно беспорядка за столом вносил один младенец, то ли он, не будучи столь ангельски красив, как старший брат, уже не являлся таким украшением семейного общества, и потому он дольше оставался на попечении кормилицы и моя мать долго не замечала и ничего не знала о серьезной неприятности, с ним приключившейся. Кормилица как-то уронила его с высокой кровати, и ребенок сломал себе ногу, о чем никто не знал. Вероятно, он покричал, может, и после неоднократно кричал больше обыкновенного, но никто не обратил на это внимания, пока, уже несколько месяцев спустя, моя мать не заметила странную «привычку» ребенка: когда его ставили на ножки, — ему было уже около года, — он всегда стоял на одной ноге, «пресмешно» поджимая другую, как цапля. И моя мать, и ее знакомые много смеялись над такой странной «привычкой». Когда же Юлию стало больше года, а он все еще отказывался стоять на двух ногах и громко кричал, когда пытались ставить насильно, мать решила, что нужно позвать врача. Рентгена в те времена еще не было, но и простым ощупыванием врач установил, что у ребенка была сломана кость и что она срослась неправильно. Стали спрашивать кормилицу, она, плача, повинилась. Кажется, ее тут же отпустили, но ребенку от этого лучше не стало. Потом Юлия много лечили; он рассказывал, что ему еще раз ломали кость, чтобы она срослась правильно, но он так и остался на всю жизнь хромым, несколько волоча свою больную ногу, сильно сутулясь при ходьбе.
Это обстоятельство сыграло, думаю, немаловажную роль в его жизни и во всем его развитии. Он никогда не мог бегать, гораздо меньше обычного принимал участие в играх с товарищами, часто подвергался насмешкам сверстников; как ни мало тогда занимались дети спортом, вое же мы все ходили кататься на коньках, на салазках, летом играли в крокет, всё это было ему мало доступно, он быстро уставал. С этим в связи, думаю, он рано пристрастился к книге, очень рано на- {11} учившись читать, много времени проводил за занятиями и вообще рос «умственным» ребенком.
Его много лечили, но никогда систематически; сама мать рассказывала нам, что позже, когда уже вся семья переехала в Одессу, врачи рекомендовали ему носить специальный башмак с металлической шиной; этот башмак нужно было носить долго, что-то больше года. Заказали обувь, ребенок постепенно привыкал к ней, но вдруг в один прекрасный день приехала к матери с визитом знакомая дама и, захлебываясь, рассказала, что кто-то ей сказал, что в «подобных случаях» очень помогает погружать больную ногу в свежий телячий сычуг. «И я сразу подумала о вас, мадам Цедербаум, и о вашем бедном мальчике». Мать, не долго думая, тотчас же посылает за коляской и волочит «бедного мальчика» на бойню — где же найти сычуг свежее? — бросает прочь ортопедический башмак и «погружает больную ногу в сычуг». Всё это было возможно лишь потому, что в то время отца в Одессе не было, и мать ничего ему не писала, желая «сделать сюрприз».
Сколько раз «погружали» ногу, я не знаю, но пользы не было ни от сычуга, ни от водворенного, после возвращения отца в Одессу, ортопедического башмака с шиной. Всего этого я не помню, но об этом рассказывала мать, а к ее рассказу старший брат неизменно добавлял, что наибольший вред башмак принес ему, так как Юлий, всегда очень вспыльчивый, нередко поколачивал его этой самой шиной...
После рождения Юлия через 2 года родилась сестра Надежда; она родилась чрезвычайно миниатюрной, выросла очень низкорослой, с довольно большой головой, от чего страдала с самого детства: когда она поступила в приготовительный класс гимназии, она была так мала, что учительница не только посадила ее на первую скамейку, но и подымала вопрос, не приносить ли ей из дому подушку, так как иначе ее не было видно из за парты. Братья дома дразнили ее «восьмушечкой», доводя этим до слез, как-то на другой манер дразнили в гимназии, и только отец утешил ее тем, что раз навсегда объявил, что «мал золотник, да дорог»...
После Надежды была еще одна дочь, Софья, но она скоро умерла от детской холеры.
В это время надвигалась — начало 1877 года — русско-турецкая война и отец должен был покинуть Константинополь. Он решил поселиться в Одессе; вскоре после переезда туда родилась я, через год брат Сергей, неизменный друг моего {12} детства, обидчик и соучастник игр и проказ... После, уже в Петербурге, куда семья перебралась после Одесского погрома, в 83 г. родился Владимир, и после две младшие сестры — Маргарита и Евгения. В промежутке была еще сестра Юдифь, но она скоро умерла, тоже от детской холеры, как тогда называли диспепсию; был еще в те же годы родившийся мертвым мальчик; из 11 детей нас выжило 8: всякой твари по паре, как говорила наша няня — два мальчика, две девочки, и снова два мальчика и две девочки.
Меня и Сергея мать кормила сама, а остальным брали кормилиц. Постепенно из светской дамы, легкомысленной и ничего о жизни не ведающей, она превратилась в заботливую, в своем роде, опытную и, во всяком случае, очень любящую мать.
По природе своей она была веселым и скорее жизнерадо стным человеком, очень доброй и, я думаю, в каком-то отношении, человеком с общественными инстинктами. На моей памяти она проделала большую эволюцию — из светской дамы (постепенно превращаясь в оппозиционного правительству человека, готового всячески помогать, в меру своих сил, своим детям и их революционным друзьям.
Никаких особых воспитательных целей она себе не ставила и гораздо больше поддавалась нашему воспитательному воздействию, чем воспитывала нас.
Русскому языку она стала учиться только в Одессе, училась, вероятно, не систематически, а «с голоса», говорила хорошо, без всякого акцента; но с падежами не всегда могла сладить, как и с разными грамматическими тонкостями. Так для решительного отказа в разговорах с нами она любила говорить — «Ни в какейшем случае»! — это было обычной формулой в ответ на наши ходатайства «посидеть попозже» и не идти спать в раз навсегда установленный час; если она настаивала на каком-нибудь своем требовании к нам обращенном, то любила повторять — «во все непременишны».
Не давались ей также пословицы, которые она очень любила почему-то употреблять. Иногда она нелепо и буквально переводила с какого-нибудь языка (вплоть до греческого и турецкого) какую-нибудь пословицу, странно звучащую в корявом переводе, а то и просто сочиняла их.
По-русски читала она совсем плохо и с русской литературой знакомилась через нас — как-то у нас издавна завелся обычай, а, может быть, она и ввела его, очень много читать {13} вслух. Читали преимущественно братья, мальчики 13-14 лет и долго жившая у нас гувернантка, Зинаида Капитоновна, смолянка, старая дева, превосходно говорившая по-французски и хорошо знавшая русскую литературу, но пренесносное существо! Она оставалась у нас, кажется, до конца 80-х годов, когда материальное положение отца заметно ухудшилось и пришлось отказаться от многих затей прежнего времени...
Читали самые разнообразные книги, начиная с русских классиков, и кончая журналом «Вокруг Света», подписчиками которого мы состояли много лет; раньше для нас выписывали «Детское Чтение». Особенно много читалось летом, во время долгих летних каникул, на даче, во время жарких часов, когда, по своеобразной гигиене моей матери, «вредно» было выходить в сад. Книги для совместного чтения выбирались случайно, и то читали Достоевского и Островского, то «Остров Борнео» или книгу о «Маори, жителях Новой Зеландии». Читали много и по-французски, особенно почему-то мифологию. И моя мать, и Зинаида Капитоновна, кажется, считали знание мифологии неотъемлемым признаком настоящей образованности, и, во всяком случае, фундаментом для настоящего образования. Слушала чтение и мать, и мы, средние, и даже младшие дети. Обычно при чтении присутствовала и няня, Пелагея Захаровна, когда-то кормилица брата Володи, остававшаяся у нас в семье до самой своей смерти. Обычай совместного чтения сохранился у нас долго; менялись книги, их содержание, но привычка читать вместе оставалась еще очень долго. Например, помню, значительно позже читали и такой рассказ, как «Чудная» Короленко, который считался, если не ошибаюсь, «нелегальщиной». Слушали и мать, и няня, едва сдерживая слезы. Мне кажется, что доставал это для нас отец, уж не знаю, откуда он брал такие книги. Таким образом мы читали и «Сороку-Воровку» Герцена, и «Подпольную Россию» Степняка; впрочем, с содержанием последней, довольно бессвязно, мы познакомились еще раньше через Юлия; с его слов, эта книга стала содержанием наших игр.
Вероятно, то обстоятельство, что мать не читала по-русски и не могла похвастать знанием тех предметов, которым мы обучались и которыми интересовались, сделало то, что большим авторитетом мать мы не считали, с ее мнениями мало считались и вообще предпочитали обходиться без ее советов. Отца, который в своей жизни много видел, везде побывал, знал массу самого разнообразного народу, мы ставили гораздо выше, больше считались с его мнениями, но и он лишь {14} не прямо «воспитывал» нас. Гораздо больше воспитывали мы друг друга, старшие младших.
От нас требовалось немногого. Попав в гимназию, мы не должны были сидеть по два года в классе, должны были обходиться без репетиторов, и эти условия мы с лихвой выполняли. Мы знали, что мы, как евреи, должны иметь очень хорошие отметки, если можно, окончить гимназию с медалью — это облегчало поступление в высшее учебное заведение. И мы все учились хорошо. Не могу сказать почему, но мой отец был вообще против того, чтобы чужие, наемные люди обучали нас. Исключение было сделано только для старшего брата, Морица, очень больного мальчика — ранний порок сердца, не позволявший ему посещать гимназию. К нему пригласили репетитора, «на кондиции», сперва только на лето, но он прожил у нас целый год, Гаврилу Михайловича Ефимова, оставшегося на многие годы другом всей семьи. Пригласили его, кажется, для того, чтобы помочь Морицу сдать какой-то экзамен; сколько помню, экзамена этого он не выдержал, а, может быть, и не держал. И после этого он не учился систематически, обучался только языкам, к которым у него были большие способности. Языки он знал недурно, то есть свободно говорил по-немецки, французски, английски и немного по-итальянски. Думаю, однако, что и эти знания были довольно поверхностными. После он служил в каком-то банке на небольшом месте, применяя там свои знания языков. К нему приходили учителя и учительницы, часто сменяясь, которые ограничивали все обучение разговорами. Занятия часто прерывались и потому, что по зимам он обычно лежал в постели, сильно страдая от ревматизма, слабый, с вечно сильным сердцебиением.
К младшим уж не брали учителей и для подготовки к вступительным экзаменам в гимназии, а предоставляли старшим готовить младших. Мне на долю выпало быть подготовленной Юлием, который был на 5 лет старше меня. Занималась я одновременно с Сергеем, который был только на год моложе меня. Должна признаться, что Юлий был из рук вот плохим учителем, нетерпеливый, вспыльчивый, способный от нерешенной задачи придти в ярость, но при всем том очень много дававший нам обоим своими рассказами по истории, литературе и т.д. Все, что он сам знал или прочитывал, он довольно бессистемно рассказывал нам. В 8-9 лет мы заслушивались его рассказами о французской революции, о значении Белинского в русской литературе, о декабристах, о крепостном праве. Рас- {15} сказывая о последнем, он вносил много корректив(!) в рассказы нашей няни, Пелагеи Захаровны.
Няня еще помнила крепостное право, «своих господ»» семью генерала Миллера, с которой она, и в бытность у нас поддерживала общение и к которой хранила почтительную верность. Несколько сестер Миллер, «миллерские барышни», старые девы, проживали в довольно стесненных обстоятельствах в Петербурге, в Саперном переулке, недалеко от нас — мы тогда жили на Бассейной, и всегда ласково встречали нашу няню, которая иногда заходила к ним, гуляя со своим питомцем, братом Володей. Хождение это не причиняло Володе ни малейшего неудобства, но мать почему-то очень не любила этих визитов.
Потому ли, что «Миллерские» были добрыми людьми, или по другим причинам, но память няни — во время крепостного права еще девочки — не сохранила никаких ужасов об этой эпохе, и Юлию приходилось убеждать нас, да и няню, что до 61 года в России «царил гнет». Няня не спорила, но туго поддавалась его пропаганде. Но мы, младшие, верили ему, да и у отца получали такие же объяснения и нянино равнодушие склонны были объяснять ее непросвещенностью.
«Ученье свет, а неученье — тьма» — это было популярным лозунгом в нашей семье, и мы все учились очень охотно и даже со страстью, особенно Юлий, который, благодаря своему физическому недостатку (хромоте), силой вещей был вне целого ряда детских, мальчишеских забав.
Свои досуги, когда не играл с нами, он целиком посвящал книге и шахматам. Такой «уклон» очень поощрялся отцом; сам он свое образование начал в хедере, чуть ли не в 4 года, но, кажется, немного сохранил от тамошней премудрости. В его рассказах об еврейском быте, верованиях, не было видно, как я теперь понимаю, библейской начитанности, объяснял он всё рационалистически, без всякой любви к этой «науке». Всё, что мы знали и слышали о старо-еврейском быте, хасидах, талмудической премудрости — все это шло от деда. Не знаю, как и когда мой отец попал в «Высшее училище садоводства», бывшее в 'Крыму, в Никитском Саду, приравненное к Агрономическому Институту и даже дававшее при каких то условиях — кажется, при занятии своей профессией – «право жительства» по всей Империи. Как я вспоминаю теперь, отец ровно ничего не знал ни о садоводстве, ни о земледелии, никогда не рассказывал нам о годах своего учения, и я подозреваю даже, что он там никогда и не учился, а только каким то образом {16} имел диплом — вероятно, именно для права жительства, хотя как раз своей профессией он и не занимался. Я уверена, что отличить березы от дуба отец не мог. Вообще он был очень, насквозь городским человеком, много в своей молодости путешествовал по Европе, много лет провел на Ближнем Востоке, часто рассказывал нам о Париже, Лондоне, о Бейруте, но никогда не было в его рассказах упоминания о природе, о деревьях, цветах. Города он любил и хорошо понимал красоту города, в частности, превосходно знал Петербург, чуть ли не историю каждого дома. Часто гуляя с нами по воскресеньям — был у нас такой обычай, который мы, дети, не очень любили, хотя прогулка неизменно заканчивалась захождением к Конради и покупкой конфект, он нам рассказывал об Аничковом дворце, Аничковом мосте, фигурах барона Клодта, о памятнике Петра и так далее. Вспоминая теперь его рассказы, я думаю, он хорошо понимал красоту большого города и, действительно, знал историю Петербурга. Где и как он приобрел все свои познания, только ли чтением, или как-нибудь еще иначе, не знаю. Читал он всегда, до самых последних своих дней» очень много, особенно любил читать всякие мемуары, по-французски, по преимуществу.
Под влиянием условий жизни, таких отличных от тех, в которых выросла и созрела моя мать, она постепенно шла все больше по пути уступок моей сестре и мне — братья много меньше нашего зависели в быту от взглядов и понятий матери. Да и на наши протесты она обычно реагировала не авторитарно, а быстро переходила на жалобный тон. Помню, часто бывали у нас с ней столкновения по поводу того, что мы отказывались идти с родителями на сейдер к тетке — мальчиков даже не приглашали, заранее зная их бурный отказ. В ответ на наш отказ идти с родственным визитом — мы были уже взрослыми — мать выговаривала: «вы никогда не хотите ничего для меня сделать, а я для вас на все иду и даже принимаю у себя «гражданскую» жену ваших знакомых» — дело шло о Вере Васильевне Кожевниковой, жене Ф. И. Дана, с чем на самом деле она мирилась вовсе не потому, что он был «наш» знакомый, а потому, что он сам был «из вполне приличной семьи», с которой родители водились и без нас, а к тому же, что ей, бедняге, оставалось делать? Мы с сестрой не очень-то опрашивали ее, с кем нам водиться, и приглашали к себе людей исключительно по своему выбору; единственную уступку, которую мы делали, это было то, что мы соглашались, по просьбе отца, приглашать их в столовую к чаю, где {17} родители могли бы тоже познакомиться с ними. «Вам все равно, говорил отец, а нам спокойнее, если мы хоть видим, с кем вы водитесь».
Предубеждение против «гражданских» жен моя мать имела еще в конце 19-го столетия, а с новым веком приняла она и то, что и я сама стала гражданской женой того же Ф. И. Дана, да и вообще многое ей пришлось принять и пережить.
Когда мы подросли и на наших общих чтениях читали иногда и Кеннана (Сибирь и Ссылка), и другую подобную литературу, матери пришлось познакомиться с русской революцией с этой стороны, поэтому, когда в 1892 г. впервые арестовали Юлия, она, хоть и не знала ничего об его взглядах и деятельности, все же была своеобразно подготовлена к новой полосе своей жизни. И эта «полоса» уже не прекращалась до самой ее смерти, все наростая и захлестывая все больше число ее детей.
Думаю, ей было очень нелегко отказаться от привычных представлений, какими должны быть «приличные девушки» «хороших семейств» и я должна сознаться, что мы мало отвечали этим представлениям и были до крайности жестоки и гнули свою линию, очень мало считаясь с ее настроениями и взглядами, не уступая даже в мелочах. С тем, что мы хотели продолжать свое образование и шли после гимназии на курсы, она примирилась довольно легко, хотя в те времена это и не было уж так принято в еврейской буржуазной среде, к которой принадлежала наша семья. Мальчики — другое дело, но девочки? Мать была уверена, что и без приданого мы вышли бы замуж и потому плохо представляла себе, зачем нам эти самые курсы нужны. Другого назначения женщины, как найти мужа и иметь детей — она не видела. Но все же она старалась не портить отношений с нами и лишь изредка вступала с нами в конфликты по поводу неподходящего нашего поведения. Думаю, в этом направлении влиял на нее отец, который имел, действительно, большое уважение ко всем своим детям и охотно мирился с тем, что наше поколение так резко отличается от его поколения. Иногда он говорил с большим добродушием — «у меня уж такое счастье, сын (Юлий) ходит лохматый, так как ему некогда сходить к парикмахеру, а дочери ходит стриженные, так как им некогда возиться с волосами; дочери мои на курсах, так как нынче нельзя без высшего образования, а сыновья плюют на университеты и дипломы, так как это старые выдумки». {18} Но говорил он это шутя и я не помню ни одного столкновения с ним у кого бы то ни было из нас. С матерью столкновения бывали и всегда по пустякам, но она очень огорчалась и отец только просил, чтобы мы ее пожалели и иногда уступали, но мы и на это неохотно шли.
Требовала от нас мать, в сущности, немногого — мы могли иметь каких угодно знакомых, приглашать кого угодно к себе и мы всегда были уверены, что каждый из наших знакомых встретит у родителей самый радушный прием. Она знала, что мы ходим в театр — на галерку, чего она не могла допустить для себя, а брать, как в прежние времена, ложу, карету и т.д. было уже не по средствам; но ходить в театр одним, без, по крайней мере, ей известных людей (она знала, что на братьев надежда плоха) ей казалось совершенно недопустимым. Так как, к счастью, среди наших знакомых были братья Соколовы, сыновья придворного протоиерея — совершенно «приличные» люди, которым она вполне «доверяла» — что, в сущности, доверялось, я и тогда плохо понимала, — то мы завели такой порядок: куда бы мы ни направлялись, к нам заходил Василий Дмитриевич Соколов, реже его брат, Николай Дмитриевич, уже тогда помощник присяжного поверенного и вполне «приличный» человек, и заявлял: «ну-с? готовы? в полном параде?» и наскоро объяснив маме о наших намерениях на вечер, мы спускались вместе, чтобы у подъезда распрощаться и каждый шел по своим делам и развлекался по своему.
Как это часто бывает в больших семьях, наш детский мир был очень отделен от мира взрослых, и мы, дети, жили тесно связанные между собой; была у нас своя мораль, свои законы, свои интересы. И во всем этом причудливо переплеталось взрослое и детское, для всех нас, и старших и младших детей, одинаково обязательное.
«Конституция» нашей детской жизни, как это ни покажется странным, была организована в связи с одной игрой, всех нас объединявшей, которая длилась годами, переходя от старших к младшим, вернее, вовлекавшая в игру постепенно подрастающих младших детей. Думаю, память об этой игре сохранилась у всех нас до конца наших дней. Я не знаю, когда и как эта игра началась; когда я вошла в нее, были уже разработаны все правила, она велась издавна. Игра состояла в том, что мы разыгрывали, только в диалогах, все, что мы читали, о чем слышали; в этой игре мы создавали какой-то иной мир, параллельный реальному миру, для нас столь же реальный. По мере {19} того, как мы становились старше, менялись и темы нашей игры — когда то, давно, мы «играли» какой-то роман Буссенара, не то «Похитители брильянтов», не то «Искатели брильянтов». Помню, мне очень хотелось быть героиней романа, Бланш, но сестра категорически этому воспротивилась, говоря, что Бланш — «мужественная девушка, а ты — плакса, и, кроме того — я старше». Все это было неоспоримо, я и в самом деле была плакса и была младше, но я так остро чувствовала, что и я могу быть «героиней», и даже пыталась убедить в этом старших. Мне не верили, и я плакала от обиды, чем только подтверждала данную характеристику. На выручку, как обычно, скоро пришел Юлий, как раз незадолго до этого он прочел Степняка, кажется, тайком, кое-что рассказал нам, и мы немедленно сменили Буссенара на Желябова и Михайлова. Тут уж было столько «героинь», что и на мою долю досталась какая то приличная роль. Вообще, криво и косо, через эту игру мы многое узнавали, попадая в какой-то новый мир — все больше через Юлия.
Наш воображаемый мир, в который мы так охотно переселялись, почему-то назывался «Приличенск». Там были свои законы, которым мы слепо подчинялись, был свой язык. Взрослые что-то знали об этом и нередко подтрунивали над нами; мы этим не смущались, втайне сознавая свое превосходство перед взрослыми и потому снисходительно относились к их «глупым» подтруниваниям. Когда кто-нибудь из дядей спрашивал меня или Сергея — «а как по-вашему, по-приличенски, баловаться»? Мы отвечали, не моргнув глазом, тут же выдумывая какое-нибудь слово, которое сразу звучало для нас странно привычно, хотя оно было тут же изобретено. Каждый из присутствовавших при этом (из детей) только сочувственно поддакивал, даже не допуская сомнения в правильности ответа. Если кто-нибудь поступал в каком-нибудь смысле неправильно, брошенное замечание кого-либо из детей — «так в Приличенске не поступают» — было самым большим осуждением. Если кто-нибудь не приготовил урока — в нашем мире это не считалось предосудительным — никакой реакции на это обычно не следовало, но, если я или Сергей, не решивши задачи (о, проклятый Верещагин!), подсмотревши в «ответах» решение, представляли задачу, как решенную — мы встречали самое суровое осуждение — это считалось «подлостью»: «нет, так в Приличенске не поступают»!
Бывали, однако, и забавные недоразумения: раз сестра и я предъявили какие то чрезмерные требования, которые вы- {20} вели Юлия из себя и он свирепо закричал: «Что это, в самом деле? С каких пор в Приличенске сестрохариат»? Я в первый раз слышала это слово и оно показалось мне очень обидным, грубым: я связала его со словом «харя», которое в нашем обиходе считалось невозможным грубиянством и нам строго запрещалось употреблять такое грубое слово, а тут оно брошено мне! Само собой разумеется, что я реагировала своим обычным способом — горькими слезами — «плакса»! Перед этим Юлий никогда не мог устоять, он стал сбивчиво и торопливо объяснять, ругая меня за мой идиотизм — «и за что я должен жить с такими идиотами!?» — что в слове «сестрохариат» нет ни капли обиды, что он только что прочел книгу (оказалось, Липперта, «История культуры»), из которой узнал, что в первобытном обществе иногда властвовали мужчины, отцы, и это называлось «патриархат», а иногда женщины, матери, — матриархат... Я удовлетворилась, вытерла слезы, но все же дальше расспрашивать не решилась и так и осталась в убеждении, что были какие то времена и какие то «общества», где главенствовали сестры. И мне даже казалось, что эти «дикари» совсем не такие глупые люди. Это недоразумение длилось довольно долго, только сама приобщившись к этому источнику мудрости (когда прочла этого самого Липперта), я узнала, что никакого «сестрохариата» не существовало! Но мне кажется, тем не менее, я как то использовала это недоразумение и иногда добивалась от Юлия каких то «уступок», которые он делал по мягкости характера, я же добивалась, смутно опираясь на «сестрохариат»... Это длилось долго. Может быть, всю жизнь...
К «Приличенску» можно было и надо было аппелировать и в более важных случаях. Помню, например, очень хорошо историю поступления к нам кормилицы Володи, Пелагеи Захаровны Беляевой. Кормилица была не слишком юная, почти в возрасте мамы, некрасивая женщина с очень приятным лицом. Очень скоро, из разговора старших, мы узнали, что, несмотря на свою молодость, она была трижды замужем, что мужья ее почему-то быстро умирали и даже ребенок — первый — родился уже после смерти ее третьего мужа. Родом она была из Калужской губернии, где ее мать «крестьянствовала», но оставаться у нее, ей, вдове, с ребенком на руках, было невозможно и потому она решила идти в кормилицы, оставив ребенка у своей матери. Очень скоро она получила письмо, которое ей прочел отец (в те времена она была еще неграмотной, но потом у нас, {21} от детей, хорошо научилась читать и кое-как писать), извещавшее, что ребенок умер. Пелагея, конечно, очень плакала и моя мать сильно волновалась, чтобы это не отразилось на здоровье Володи, очень слабенького ребенка. Чтобы «утешить» кормилицу, она пошла и купила ей подарок, какой-то байковый платок. Я потому так запомнила эту историю, которая в первую минуту, должна признаться, и не произвела на меня большого впечатления, что Юлий был страшно потрясен и вестью о смерти ребенка — он понимал, очевидно, что ребенок умер именно потому, что мать его кормила чужого ребенка — и особенно бессердечием нашей матери, «посмевшей в такую минуту дарить байковые платки». Взволнованный, он позвал меня и сестру — я как сейчас помню, как он, волнуясь и размахивая руками, загонял нас в угол гостиной, хватал за рукава, сбоку заглядывая нам в лицо, долго объяснял безнравственность такого положения вещей и взял с нас «клятву», что мы, выросши большими, никогда такой «подлости» не сделаем и тоже ссылался на Приличенск. Вероятно мы легко дали это обещание. Но ему было этого мало и он потребовал повторения обещания самым страшным бывшим в ходу у нас заверением... Сделали мы и это... Это было не трудно, да и ссылка на «Приличенск» была убедительна — в самом деле, разве там существовал институт кормилиц? разве там не царило равенство и братство?
Может показаться смешным, но это «обещание» имело в моей жизни самое серьезное значение: я органически не была способна прибегнуть к помощи кормилицы, когда у меня самой появились дети и даже в трагическую минуту, когда моя дочь в Париже был в очень плохом состоянии и не могла переносить «бутылки» и врач настаивал на том, чтобы взять кормилицу, я все же отказалась от этого... Помимо всего рационального, логического, в памяти вставала та сцена, когда Юлий, загнав нас в угол, горячо говорит, дергает за рукав, заглядывает в лицо, требуя «обещания».
Много лет спустя, уже незадолго до его смерти, я раз спросила его, помнит ли он об этой сцене. Оказывается, помнил... На мой вопрос, как ему могла придти в голову идея говорить на такие темы с такими малышами, какими мы были тогда, он, сконфузившись, отвечал: «я, вероятно, больше имел в виду Надю, она все же была старше»! – ей в то время было около 8 лет, мне — шестой! – и, помолчав, прибавил с сконфуженной, но довольной улыбкой: «а все-таки это имело смысл» вот видишь, и ты на всю жизнь запомнила!»... {22}
Отец был совсем иным, чем мать, человеком; хорошо по тому времени образованный, очень много читавший, много видевший на своем веку в своих бесконечных путешествиях, «западник» и «шестидесятник». И у него, как и у его отца, еврейского «просветителя» была безграничная вера в просвещение, чем ему удалось отчасти заразить и нас всех. Только просвещение и культура могут спасти человечество от всех язв современной жизни, еврейство, в частности — от его бесправия и унизительного положения. Тут сказывалась вся атмосфера шестидесятых годов, когда складывался его характер, да и влияние его отца, которого он очень любил и необычайно высоко ставил. Это свое отношение к нему он сумел передать и нам всем.
Свои либеральные понятия он проводил в жизни и в деле воспитания всех нас и не только решительно ни в чем не стеснял нас, но, как свидетельствует Мартов в своих «Записках социал-демократа», даже посоветовал ему пойти на похороны Шелгунова, хотя, конечно, не мог не понимать, что гимназисту перед экзаменами на аттестат зрелости лучше не парадировать на политической демонстрации.
Да и в других случаях он не боялся направлять нашу мысль и чувства по оппозиционному пути, принося домой «нелегальную», по тому времени, литературу и устраивая в нашем присутствии и отчасти для нас, для старших детей, чтение Герцена, к которому он питал особое почтение и к которому даже ездил в одно из своих путешествий в Европу. Он читал с нами защитительные речи видных политических адвокатов на политических процессах и т.д. Он был хорошо знаком с Петром Акимовичем Александровым, который защищал Веру Засулич и, в известном смысле, добился ее оправдания. Александров бывал иногда у нас и охотно вспоминал об этом деле. К Вере Ивановне Засулич отец питал особое почтение и я помню, как он волновался, когда я сказала ему, что она будет у нас к обеду (в 1905 г.). Помню, как он был доволен, когда мы устроили так, что Вера Ивановна, поселившись, недалеко от нас, у Ник. Дм. Соколова, приходила к нам обедать ежевечерне...
Конечно, у него и в мыслях не было, что его дети будут революционерами и от первого, в частности, ареста Юлия у него был (порядочный шок, но всё же он никогда не упрекал ни его, ни кого-либо из нас за то, что мы выбрали такой путь и никогда не осложнял нам тех передряг, которые выпадали па нашу долго. Должна с признательностью отметить, {23} что редко можно было встретить в нашем окружении другую семью, где так безропотно принималась та полная тревог и огорчений жизнь, которую мы создали для наших родителей. Постепенно они пошли и дальше и даже оказывали, особенно мать, разного рода услуги нам и нашим друзьям.
Не знаю почему, после русско-турецкой войны материальное положение отца и всей нашей семьи резко изменилось к худшему. Война как то «разорила» его, неоднократно говорил он нам, но в подробности не пускался. Кажется, дело было не только в потере службы в Русском Обществе Пароходства и Торговли. Но как бы то ни было, первые годы нашего детства, старших детей, протекали в обстановке полной обеспеченности, да и после, несмотря на разные перебои, мы, дети, никогда не нуждались и не терпели от каких либо недостатков: всегда жили в большой, хорошей квартире, летом ездили «на дачу», всегда хорошо питались и вообще были далеки от мысли о том, насколько не легко отцу, единственной рабочей силе семьи, прокормить огромную семью — нас было 8 человек детей, да у нас, кроме того, воспитывалась двоюродная сестра, дочь рано умершего брата отца, а еще раньше маленький двоюродный брат, сын другого брата отца, тоже умершего от туберкулеза. У нас всегда было много прислуги — правда, в те времена жалования были очень низкие, да и прокормить человека не стоило дорого, до конца 80-х годов были всегда гувернантки, а у младших сестер и позже были бонны.
Охотно рассказывал нам отец и о своей семье, о деде нашем, особенно. В детстве я неоднократно слышала — не от отца — всякие рассказы о «властном характере» деда. По правде сказать, с этой стороны мы его вовсе не знали. Он не вмешивался в жизнь нашей семьи, кажется, легко мирился с ее ассимиляторским характером. Правда, когда мы переехали в Петербург, он попробовал настоять, чтобы старшие мальчики, Мориц и Юлий, учились еврейскому языку и даже сам пригласил к ним учителя. Если не ошибаюсь, их учителем был Файвель Гец, человек очень ученый; но из уроков этих ничего не вышло, мальчики скоро поладили с отцом на том, что затея эта ни к чему. Дед не протестовал. Гец остался добрым знакомым, иногда бывал у нас, но уроков никогда не возобновлял. Не помню, чтобы дома были разговоры о том, что дед был этим недоволен. Учению, вообще он придавал огромное значение, в частности он очень хотел, чтобы мы все хорошо говорили по-русски, знали бы русскую литературу, вообще {24} много учились, но у всех нас были те же настроения и потому не было места ни для каких конфликтов.
Был ли он религиозным человеком? Думаю, — скорее нет, хотя он и ходил в синагогу, держал дома кошерный стол, в какой-то мере соблюдал субботу, праздники, но ему и в голову не приходило требовать, чтобы мы в гимназии не писали в субботу или постились бы в иомкипур. Сам он — постился. Сейдер справлял очень торжественно, но, мне кажется теперь — не очень ритуально: читались все полагающиеся молитвы, но в промежутках шли оживленные разговоры на самые разные, не всегда религиозные темы. Я не помню, чтобы братьев заставляли читать вопросы — «кашес».
Дед жил в большой квартире, где помещалась и редакция газеты «Гамелиц»; если не ошибаюсь, это было в 4-ой Роте Измайловского Полка. Хозяйство его вела кухарка Соня, которая строго следила за тем, чтобы все «правила» исполнялись. В квартире же жил и рассыльный Феофан, на редкость глупый человек, но очень преданный деду.
Квартира была очень неуютная, очень непохожая на нашу, но мы, помню, очень любили ходить к деду, быть может, именно в силу этой непохожести. Но и кроме того, когда дед приходил к нам, с нами он мало разговаривал, когда же мы приходили к нему, он охотно и помногу рассказывал нам. Рассказывал он особенно охотно и с большой страстностью о старом еврейском быте; к традиционной ортодоксии он относился очень отрицательно, вера в силу просвещения и тяга к нему была его второй натурой. Он искренно был убежден, что просвещением можно разрешить все проблемы, в частности еврейское бесправие. Я не помню, чтобы он много говорил с нами о религии, к обрядовой стороне относился без большого уважения, стараясь дать нам какое то рациональное объяснение этой стороне, и этим объяснить свое хотя бы внешнее уважение. Но национальное сознание было у него очень сильно, думаю, он твердо был убежден в том, что евреи в известном смысле, действительно, избранный народ, и уж, во всяком случае — выше всякого другого. К русскому «простому» народу он относился пренебрежительно — для него Феофан был типичен, но к русской интеллигенции — относился с величайшим уважением, которое старался привить и нам.
Дед много рассказывал нам о мрачной эпохе царствования Николая I; помню, особенно большое впечатление осталось — и это на всю жизнь! — от института «кантонистов». {25}
Стараясь пробудить в нас всех чувство «солидарности» с еврейством, дед не скрывал от нас всех темных сторон старого еврейского быта, власть «ортодоксии». Именно он подарил братьям книгу Богрова «Записки еврея» и нисколько не мешал тому, что в нас зарождалась ненависть к «ортодоксии».
Помню, он рассказал нам с большим неудовольствием, что Богров принял христианство и очень неодобрительно отозвался об «отречении» от еврейства. На наши возражения, что раз Богров в Бога не верил, не так уж важно, что он и крестился, дед со страстью оказал: «но ведь он и в христианского Бога не верил! Это стыдно из лагеря гонимых переходить в лагерь гонителей». К этой теме в разговорах с нами он возвращался не раз. Все его рассказы об еврействе, несомненно, имели целью пробудить в нас какую то интимную связь с ним. Думаю, ему было ясно, что путь к нашим сердцам лежал совсем не по религиозной линия, и даже не по национальной, а скорее по гуманитарной...
Еще до встречи с дедом Юлий, к которому больше всего лежала душа деда, как то ощутил своеобразную связь с еврейством. Было это во время еврейского погрома, который, хотя и прошел мимо нас, но впервые показал, где, собственно, наше место. Сам Мартов пишет об этом в своих «Записках социал-демократа».
«...Мы двинулись осенью 1881 года — мать с гувернанткой и 3 детьми. С трудом матери удалось найти место, куда она могла приткнуться с младшей сестрой. Мне и брату разрешено было идти и искать себе место в других отделениях. Нас приютил какой-то еврей грустного вида. Не помню, каким образом он начал нам, мальчикам, рассказывать свою историю» вероятно, был в таком состоянии, когда человек другого ничего рассказывать не может. А история его была обыкновенной историей десятков тысяч евреев: о том, как он хорошо жил с семьей в городе Елисаветграде и как пришел погром и отнял у него все — и достояние, и семью, из которой у него несколько человек убили. Он рассказывал нам глухим спокойным и покорным голосом, описывая знаменитый по своей же стокости Елисаветградский погром, и мы слушали его, подавленные, готовые бежать от этого рассказа, но не смея шелохнуться и как будто стыдясь чего то перед лицом кроткого старика, заботливо устраивающего нас на своей лавочке. Мерный звук железнодорожных колес, впервые своей мелодией коснувшийся моего уха, таинственный полусвет вагона и мель- {26} кавшие тени переполнявших его чужих людей — все это создало жуткую обстановку, навсегда врезавшуюся в моем мозгу и закрепившую в нем трагический рассказ, которым неведомый старик беспощадно вводил нас в юдоль печали. Я, как сейчас, помню и лавку, на которой сидел старый еврей, и его лицо, и длинное на нем темное пальто, и этот гулкий стук колес, и выплывающие из полумрака лица других пассажиров». («Записки социал-демократа», стр. 19).
Думаю, этим подспудным настроениям, вернее, ощущениям как то отвечал дед своими рассказами о своей деятельности, которую мы воспринимали, вероятно, несколько стилизованно, плохо разбираясь в ее конкретных проявлениях.
Дед, несомненно, был человеком другого века, родился он в Замостье Люблинской губернии в 1816 году. Отец его — часовых дел мастер был уже не чужд просветительных идей и стремился дать сыну хорошее, по тому времени, образование. Как и каждый еврей того времени, дед рано женился, рано имел детей. Его кипучая энергия плохо мирилась с тихим житьем в Замостье и в 1840 г. он вырывается из тихой провинции и поселяется в Одессе. В нашей семье, особенно, среди детей шли рассказы, уж не знаю, откуда взявшиеся, что деду, чтобы вырваться из рамок еврейской традиционной жизни, пришлось много бороться, чуть ли не говорили даже о «хереме», но после я никогда не могла проверить этих рассказов и найти им подтверждение.
Очень рано он ощутил в себе литератора и, несомненно, своеобразным талантом он обладал, хотя, говорят, писал тяжело, витиевато... Плохо знаю, чем он занимался в Одессе в течение 20 лет, но в 1860 году он задумал издавать газету на древне-еврейском языке. Было это делом не легким; приходилось преодолевать не только материальные трудности, но еще больше всякие административные препятствия. А им, действительно, не было числа и, вероятно, не будь дед таким настойчивым в достижении своих целей, никогда бы не приступить ему к изданию газеты! Разрешение на издание «Гамелиц» ему помог получить Пирогов, как то попавший в Одесскую Талмуд Тору, где преподавал д-р Гольденблюм, с которым был связан дед, и которая, по тем временам стояла на очень большой высоте. Хвалебную статью Пирогова об этой Талмуд Торе дед перевел на еврейский, что и было чуть ли не его первой литературной работой и что навсегда решило его судьбу. Как и Пирогов, дед был, по понятиям того времени, «передовым» человеком, но задачу своей газете он ставил чрезвычайно {27} скромную — быть посредником между еврейским народом и правительством, между религией и просвещением. Газета, кажется, была довольно жалкого вида. Писатели —- все больше самоучки, писали в ней бесплатно, порой малограмотно. Очень скоро эта газета перестает удовлетворять самого деда и в 1863 году он, как бы сказали теперь, «явочным порядком», без всякого разрешения, начинает давать еженедельное приложение на идиш — «Кол-Мевассер», которое сразу завоевывает широкие симпатии читателей и, видимо, был гораздо более нужным изданием для читающей публики. С 1871 года издание Гамелица [переносится в Петербург, что повлекло за собой прекращение «Кол-Мевассера», так как издание в столице газеты на презренном «жаргоне» было, конечно, в те времена совершенно невозможно.
Вообще с самого начала на пути литературной и издательской деятельности деда стояла масса препятствий. О том, как он их побеждал, он любил со смехом нам рассказывать. Получив, например, разрешение на издание газеты в Одессе, он узнал, что в этом городе, во-первых, не было типографии с еврейским шрифтом — таких типографий было вообще в то •время только две — в Житомире и в Варшаве а, во-вторых, не было цензора, владевшего древне-еврейским. Был в Киеве цензор, хорошо владевший этим языком. Выходило так, что газета должна была выходить в Одессе, но рукописи статей должны были посылаться на просмотр в Киев и для печатания в Житомир!
Положение явно невозможное и, чтобы выйти из него, надо было прибегнуть к очень сложной проделке: по случаю коронации Александра П дед решает написать... оду, тем более, что как раз в это время государь должен был проезжать через Одессу, по дороге в Крым. Деду приходилось еще до того времени писать роман (кажется, совершенно бездарный!), но оду... Не смущаясь новизной дела, он пишет оду, дает доктору Гольденблюму перевести ее на немецкий и в таком виде посылает государю. В препроводительном прошении ходатайствуется о разрешении оду «напечатать в издающейся в Одессе еженедельной газете». По-видимому ода производит впечатление, а, может, Александр II и не читал ее, но почему не начертать «разрешаю»? С таким разрешением в кармане дед уже без большого труда добивается разрешения пустить в ход имеющийся у одного типографа еврейский шрифт, добивается, чтобы был назначен цензор, владеющий еврейским {28} языком и живущий в Одессе и т.д. и в первом номере печатает целиком свою Оду!
Верноподданнические чувства этой Оды только отчасти были проявлением хитрости или дипломатии. В те времена все чаяния и надежды просветителей на освобождение еврейского народа от невежества, от бесправия (что в их сознании было неразрывно связано), были обращены на разумную деятельность правительства, которое сумеет оторвать невежественные массы от традиционной ортодоксии, от средневековья, в котором так охотно оставались и хасидизм, и раввинизм.
Дед объяснял нам, что в те времена, по мнению просветителей (и его в том числе), евреи должны были доказать правительству свою полезность, порвать с изоляционизмом еврейской жизни, приобщиться к общерусской культуре и просвещению. В 80-х годах их иллюзиям был нанесен жестокий удар и с тех пор, после полосы погромов, участие правительства в которых было слишком очевидно, у деда, как и у дру гих «просветителей», начинают громче говорить национальные чувства, идут поиски выхода в эмиграции, впервые возникают сомнения в пользе и эффективности ассимиляции. Эти настроения уже шли мимо нас, мы были безнадежно ассимилированы, и кроме смутных, подспудных настроений, которые никогда не могли по настоящему расцвести, с еврейством связаны не были.
Несмотря на то, что «Гамелиц» всегда был лицом обращен к правительству, в нем была, невидимому, своеобразная прогрессивность и эта сторона деятельности деда нам всегда очень импонировала. Может быть, мы даже ее сильно преувеличивали. Но его рассказы о так называемом «Кутаисском деле», когда группа кавказских евреев была обвинена в ритуальном убийстве (предтеча процесса Бейлиса) и о том, как он со всей присущей ему энергией и страстью вошел в дело организации защиты лучших адвокатов того времени — процесс закончился оправданием всех обвиняемых — поражал наше воображение именно своей общественной стороной. Помню — у деда была фотография — группа длиннобородых евреев, сидящих на стульях в ряд, перед ними такие же несколько странные люди на полу, а за ними — несколько адвокатов, во фраках, с привычными лицами. Да и кавказские евреи сильно отличались от привычно встречаемых евреев с юга России или западного края. Я очень хорошо помню, что, глядя на эту «группу», я про себя думала, что эти адвокаты, такие привычные, русские, мне чем то ближе и понятнее, чем {29} эти мои соплеменники. Вероятно, я не решилась бы никому тогда сказать об этом...
Не зная древне-еврейского языка, мы никогда не могли читать газеты деда, и по его рассказам не могли уловить того, невидимому, невысокого уровня, на котором стояло это издание; все же его рассказы нам импонировали, да, кажется, у него и на самом деле было истинное чутье журналиста и он много сделал для создания настоящей, почти европейского образца, еврейской публицистики; по его словам, в «Гамелице» впервые в еврейской прессе появился настоящий публицистический отдел; он первый обратил внимание на вопросы внутреннего развития иудаизма; он сумел привлечь к изданию настоящие таланты, вроде Л. Гордона и других.
Дед был большим оппортунистом, придавал большое значение всякого рода ходатайствам, вечно ходил к разного рода власть имущим и, надо сказать, всегда чего-то добивался. Думаю, десятки и даже сотни студентов были приняты в университеты «сверх процентной нормы», десятки еврейских интеллигентов получали «право жительства» в столице. Видимо, его «просветительная» деятельность вызывала к нему симпатии и у такого реакционного человека, как министр народного просвещения Делянов, который принимал его всегда очень любезно и очень часто положительно относился к его «ходатайствам». Любопытно, что он умел быть убедительным при очень несовершенном знании русского языка; он сам рассказывал нам, что однажды Делянов опросил его: «А чем же вы живете, господин Цедербаум»? На что дед отвечал: «всегда своей перой, ваше превосходительство»! — то есть литературной деятельностью. Дед сам весело смеялся, рассказывая об этой своей ошибке.
«Общественные» настроения в Юлие дед очень поощрял и очень надеялся, что из него выйдет «настоящий» человек. Даже первый арест его не обескуражил: это было в порядке вещей. 'Правда, он не дожил до того, что все его внуки, один за другим, становились революционерами, и то бывали арестованы, то попадали в ссылку, то почему то исключались из учебных заведений. При его жизни арестован был только Юлий, его главная надежда; и хоть он начинал понимать, что пути его развития отнюдь не совпадают с его надеждами, все же, как только после его первого ареста 25-го января 1892 г. по студенческому делу стали говорить о возможности его освобождения под залог, дед не только внес требуемые 300 рублей, но и всячески убеждал брата «плюнуть» на эти {30} деньги и ехать учиться заграницу. К тому времени в Соединенных Штатах уже жил дядя Адольф, был вполне «устроен»; он тоже приглашал брата к себе и обещал ему всякое содействие в деле получения образования — дед был убежден, что при способностях Юлия и американской демократии, ему ничего не будет стоить стать «там» первым человеком; но брат отклонил все эти лестные предложения и предпочел ждать приговора, отсидки в Крестах, поднадзорного житья в Вильне, затем нового ареста и т.д. Ему самому было ясно, и он не скрыл этого от семьи, что «первым» человеком ему не быть и нечего им на это и рассчитывать. Ни родители, ни дед «твердости» характера не проявили и предоставили мятежному юноше идти своим путем, родители — больше всего потому, что и сами не знали, как взяться за противодействие таким настроениям, дед — быть может, потому, что инстинктивно чувствовал, что и такое служение народу чем то выше и лучше, чем наилучшим образом устроенная личная карьера. А для деда — я уверена, служение народу было раз на всегда поставленной целью...
О своей семье отец охотно рассказывал нам, видимо, ему хотелось, чтобы у нас была настоящая связь с его родными.
Было у него 4 брата и сестра; она была старшая и, кажется, довольно крутого, властного характера, но отец очень любил ее. Наша мать этой любви не разделяла и мы все выросли без всякой приязни к ней, тем более, что узнали мы ее очень поздно — только после смерти деда, хотя она всегда жила в Петербурге, всегда в одной и той же квартире, Литейный проспект, № 37. Годы она была в ссоре с дедом, а из-за этого и с моим отцом, который в этой ссоре безоговорочно встал на сторону деда. Из-за чего была ссора — не знаю. Кажется из-за ее мужа, дяди Арнольда Гольденблюма; как я понимаю теперь, вряд ли в ссоре был прав дед, но тогда ни у меня, ни у кого либо в нашей семье не могло зародиться сомнение относительно того, кто мог быть прав — таким непререкаемым авторитетом, даже не насильственно нам навязанным — а как-то добровольно нами всеми принятым — пользовался дед.
Дядя Гольденблюм был, кажется, очень ученым человеком, доктором философии какого то немецкого университета, сам немецкий еврей, всю свою жизнь проживший в России, но так и не научившийся русскому языку. Кажется, он был та- {31} лантливым и даже выдающимся по тем временам педагогом и я только теперь нашла в литературе кое-какие указания на то, что и в деле издания и создания Гамелица, которое мы всегда считали делом только рук деда, он сыграл большую роль, и что его очень высоко ценил, как педагога, Пирогов, но в моей памяти, в те годы, когда я его встречала, он был просто «чудаком, имевшим к тому же какую то странную специальность — высчитывал на много лет еврейские календари: к тому времени, когда я его впервые увидела, после смерти деда, он был красивым стариком с серебряной, прекрасно сохранившейся шевелюрой, говоривший только по-немецки, тихий и застенчивый в собственном доме, во всем покорный своей жене, но с необычайным упорством отстаивавший свои чудачества перед этой властной женщиной. Он всегда ходил в сюртуке, на улице — всегда в цилиндре. Даже в жестокие морозы, бывающие иногда в Петербурге, он никогда не носил шубы, а ходил в легком черном пальто без мехового воротника. Среди его чудачеств была у него мания — иметь точные часы и потому каждый день, около 12 часов он открывал форточку и слушал, не раздастся ли выстрел пушки из Петропавловской крепости. Он уже держал в руке свои старинные золотые часы и с напряженным вниманием всматривался в стрелки. Если обе стрелки сливались в момент выстрела, он облегченно вздыхал, опускал часы в карман и ждал завтрака, который подавался несколько минут спустя. После завтрака, он «отдыхал», то есть не надолго ложился и затем, во всякую погоду, шел пешком на Невский проспект, к углу Садовой, к Городской Думе и сравнивал свои часы с часами на каланче. Если кто-нибудь спрашивал его, который час, он неизменно отвечал, взглянул на свои часы: 5 часов 11 минут, это по крепостной пушке, а на каланче, значит, теперь 5 часов 12 минут. Иногда он уточнял справку, добавляя: «а по часам Мозера, около Казанской, сейчас 5 часов и 10 с половиной минут». Чудак пал жертвой своего чудачества; уже глубокий старик, простуженный, он все же открывал зимой свою форточку, окончательно простудился, заболел воспалением легких, от которого и скончался.
Был безобидным «человеком, досаждавшим людям разве что только своим педантизмом. Совсем иным человеком была тетка Розалия. О ней никто не рассказывал анекдотов и до смерти деда я мало что слышала о ней. Мой отец очень любил свою единственную сестру и ее детей и не хотел, чтобы у него в доме о ней плохо говорили, но, кажется, понимал, что говорить о ней {32} хорошо — трудно. Мать же моя определенно не любила ее, но из-за отца молчала. Видимо, тетка была женщина с характером и не только держала в руках безвольного, рыхлого чудака мужа, но и своих детей, по-своему даровитых людей — сына врача, который тянулся к музыке, но которого она «пустила по медицине», и дочь, окончившую петербургскую консерваторию, которая меньше всего хотела быть учительницей музыки... Видимо, она пыталась в свое время, в качестве старшей сестры организовать и жизнь моей молоденькой тогда матери. Но у нее хватило характера уклониться от этого... Отсюда — вероятно — и прохладные отношения между ними...
Больше связей было у нас, особенно в старые годы, у старших детей, с братьями отца — нашими дядьями. Двое из них были врачами — старший, следовавший за нашим отцом, Адольф должен был стать, собственно, по плану деда, коммерсантом и был послан в Берлин, чтобы пройти курс в какой-то Хандельс-Академи, но вместо этого он поступил на медицинский факультет, который и окончил благополучно. Получал он «из дому» ежемесячно 30 рублей и добывал недостающие средства литературным трудом — отец нам с гордостью рассказывал, что Адольф переводил на немецкий Тургенева и вообще слыл очень хорошим переводчиком. Окончив медицинский факультет, он вернулся в Россию и должен был сдать экзамен «на аттестат зрелости», так как не был в русской гимназии, и только после этого мог приступить к медицинским экзаменам, что и было им проделано с успехом. Затем он, как полагалось тогда, написал диссертацию и сдал еще докторский экзамен. Казалось, он достиг цели и мог «устроиться», стать приличным членом еврейского общества, но тут подошел несчастный 81 год, когда по России прокатились еврейские погромы и он не захотел оставаться в России и уехал в Соединенные Штаты, поселился в Денвере, стал врачем, специалистом по туберкулезу, кажется директором санатории и умер уже глубоким стариком, во время войны 1914-18 г.г. Мне после рассказывали, что санатория, где он работал, была чуть ли не первой в Штатах, устроенной по немецким образцам, в нее больные принимались без различия национальности и расы. Он остался одиноким человеком, после смерти деда совсем оторвался от семьи, редко писал, но все же, видимо, сохранил какие то родственные чувства и интересы — с удовольствием видался с Юлием, приезжая во время войны в Швейцарию для отдыха. Он уже был настолько нездоров, что приезжал в Европу с сиделкой. Трудно понять, почему он {33} ездил из Колорадо в санаторию в Швейцарию, сам работая в образцовой санатории для туберкулезных... Была ли это не истребимая тоска по Европе или что другое — не знаю...
Был врачем и другой брат моего отца, самый младший — Яков. Он окончил Военно-Медицинскую Академию, куда в те времена принимали евреев. Его я совсем не помню, он рано умер, тоже от туберкулеза, в Меране, куда его повезли уже совершенно безнадежно больного. Было это задолго до смерти деда, в конце 80-х годов. Он оставил трех детей, из которых двое мальчиков перекочевали в конце концов в Америку, к дяде Адольфу, не ставши, кажется, ни в какой степени утешением его старости, а дочь Ольга осталась с матерью, поселившейся в Вене и умершей там в больнице для психически больных. Что стало с Ольгой — не знаю. Мать ее, Фанни, была очень странной женщиной, нервной, истеричной; она обладала и странной наружностью, я хорошо помню ее карточки — красивая, высокая женщина, в черном бархатном платье с длинным шлейфом. Большие светлые глаза, пушистые волосы. Смутно помню ее в жизни, особенно, ее совершенно белые, как у альбиноски, волосы, какие-то прозрачные глаза. Она была хорошей пианисткой, окончила петербургскую консерваторию. После я слышала, что дядя Яков участвовал в революционных «нигилистических» кружках, хотя, кажется, сам революционером не был. Там же была и Фанни, фамилии ее не знаю, говорили, талантливая музыкантша, человек не от мира сего, страдавшая тяжелой формой истерии. Студенты медики, к кружку которых принадлежал и дядя Яков, считали, что Фанни сразу вылечится, если начнет жить брачной жизнью и «постановили», что кто-нибудь из них должен на ней жениться. Жребий пал на дядю и он женился, что, впрочем, мало, способствовало ее выздоровлению и, кажется, большого счастья ему не принесло. Последнее, впрочем, утверждала всегда моя мать, очень не любившая, уж не знаю почему, Фанни. Она часто говорила об ее беспорядочности, неумении создать домашний уют для больного мужа, о плохом воспитании ее детей и как-то прямо выводила из всего этого смертельную болезнь дяди — туберкулез. Знала ли она что-нибудь более детально о семейной жизни дяди и не хотела говорить нам об этом или просто ей, в то время очень буржуазной даме, претило от богемистой Фанни — я не знаю.
Всю историю брака дяди я слышала из семейных источников и много лет спустя, спросила как-то Веру Ивановну Засулич, насколько такая версия правдоподобна; она гово- {34} рила, что это вполне возможный случай из быта студенческой молодежи 70-х годов.
Было у отца еще два брата — Исай и Натан. Последнего я совсем не знала, но, может быть, и видела раза два во время его наездов в Петербург. Жил он постоянно в Николаеве, жил, кажется, трудновато. Там же женился, там же они оба, и он, и его жена, Настя, умерли, сравнительно молодыми людьми, почти одновременно, от туберкулеза, оставив трех детей — сына Владимира, способного музыканта и журналиста, кончившего свои дни в Париже во время немецкой оккупации, как «безвестно пропавший» после депортации его жены, Марии Исаковны Каменки; дочери Софии, после смерти родителей поселившейся в нашей семье и выросшей вместе с моими младшими сестрами, почти ее однолетками. По окончании гимназии и зубоврачебных курсов, она стала жить самостоятельно, затем, уже после революции 17 года вышла замуж, кажется, не очень счастливо, за меньшевика-плехановца, Ольгина-Фомина, уехала с ним после октябрьской революции на Восток и умерла от тифа во Владивостоке. Младший же их брат, Яков, воспитался в семье другого дяди, Исая, и был очень близок ко всем нам, стал меньшевиком. После октябрьской революции поселился в Москве и работал в советском аппарате. Был у него сын, Юра; слышала, что он был комсомольцем. Кажется, Яков, единственный член нашей семьи, уцелевший в Советском Союзе.
Дядя Исай, в семье которого он воспитывался, был женат на Елизавете Григорьевне Пинес, неглупой, но мало приятной женщине, которая в дальнейшем совершенно перевоспиталась под влиянием своего сына, Федора, известного под фамилией Дневницкого, последователя и верного оруженосца Плеханова, его многолетнего секретаря. Будучи «плехановцем» во время революции 17-го года и ярым анти-большевиком-активистом после октябрьской, он пошел гораздо дальше своего учителя, Плеханова. После убийства Урицкого, к которому он не имел, однако, никакого отношения, он был арестован и был очень близок к расстрелу, но отделался «всего» десятью годами изолятора, кои и просидел в Верхнеуральске, а затем попал в ссылку в Туруханск. И то, и другое он перенес, сравнительно, благополучно, сохранил много литературных интересов, в частности, к французской поэзии, и сам писал стихи. Задолго до последних приключений, он сошелся с Идой Хорочинской и имел сына, Виктора, который вырос без него и вдали от всей нашей семьи. Но став взрослым, уже студентом, {35} Виктор самостоятельно пришел к социал-демократическим идеям, принял участие в студенческом движении 1922 года в Ленинграде, был арестован и попал на Соловки. Там он обратил на себя внимание своими совершенно исключительными способностями к математике и по ходатайству какого-то тоже ссыльного профессора был освобожден и отпущен учиться. Вероятно, на Соловках он разузнал о семье Цедербаум и, вернувшись на континент, поехал разыскивать кого-нибудь из семьи и нашел в Саратове семью Сергея Осиповича, с которой близко сошелся. Потом он был снова арестован, уже, как меньшевик, в Ленинграде; у него нашли адрес дочери Сергея Осиповича, с которой он очень подружился и с которой состоял в переписке, что повлекло за собой и ее арест. Что стало с ним позже, его мать так никогда и не узнала; не знала, куда его услали и теперь трудно оказать, жив ли он. Отец его погиб в начале войны — при «ликвидации» меньшевиков.
Мать Дневницкого, как я уже упомянула, была мало приятной женщиной. Дочь очень богатого человека, но дочь нелюбимая, она очень торопилась выйти замуж и, получив от отца небольшое приданое, гораздо меньшее, чем по средствам отца должна была бы получить, она, кажется, без особой любви вышла замуж за моего дядю, кажется, дело было сделано при помощи свахи. Дядя вряд ли считался завидной партией, так как, хотя и из «хорошей» семьи, не имел, «хорошего» положения, в делах был легкомыслен, не без склонности к авантюрам. Но на лучшее и невеста не могла рассчитывать — хотя и довольно красивая, она не могла иметь претензии «на хорошую партию»: ее отец, богатый лесопромышленник, дважды женатый и дважды овдовевший, в третий раз сошелся с русской женщиной, имел от нее дочь и явно «обижал» своих восьмерых законных детей в пользу младшей, «незаконной». Это обстоятельство легло, конечно, неизгладимым «пятном» на семью и особенно повредило шансам дочерей, моей тетке Лизе, и ее младшей сестре.
На небольшое «приданое» дядя немедленно устроил типографию, устроил, казалось бы, хорошо, был он великим специалистом этого дела, но дело почему-то не пошло, пришлось не то продать, не то уступить компаньону; в «приданом» образовалась большая брешь, что тоже не способствовало семейному счастью. У них было двое детей — «любимая» дочь, Вера, умерла в 10 лет от (брюшного тифа), остался один Федор, трудный, своевольный, ожесточенный мальчуган, хотя и ставший единственным и страстно любимым, всё же не про- {36} стивший былого пренебрежения. Его очень любили в нашей семье, он дружил с моими младшими сестрами, был их «рыцарем», когда мы все разбрелись по белу свету; любила его и моя мать и не могла нахвалиться его ласковостью, чего никогда не видала от него его родная мать, которая не мало боролась с ним, выступая против «цедербаумовских» влияний и настроений, но кончилась эта борьба безусловной победой сына над матерью, которая, вероятно, в начале 900 годов уже сама стала проникаться симпатиями к революционному движению, к социал-демократии, в особенности, стала оказывать сыну и его друзьям всяческую помощь, хранила литературу, собирала деньги, работала в революционном Красном Кресте, ходила на свидания к бездомным и одиноким политическим и так далее. Не знаю, пошла ли она за сыном в его последней, анти-большевицкой эволюции; умерла она от рака во время сидения Феди в изоляторе, где иметь с ним свидания уже не могла.
С некоторыми членами нашей семьи она в более поздние годы свела настоящую дружбу и сама смеялась, вспоминая, как боролась против «цедербаумовских влияний». — Вот еще случай воспитания родителей детьми — яйца курицу учат!
Исай никакого особенного общего образования не получил, с раннего возраста специализировался на типографском деле и, кажется, действительно, был хорошим специалистом не коммерческой, а технической части этой промышленности. У него были всегда очень хорошие отношения с рабочими, он не был социалистом, но с симпатией относился к революционному движению; февральскую революцию принял очень энтузиастически, без всякой злобы — октябрьскую, которую не надолго пережил, очень растерявшись от того, что все случилось не так, как можно было ожидать... {37}