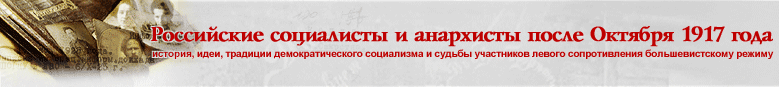
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Беседа с Татьяной Всеволодовной Шестаковой,
дочерью члена ЦК ПСР Всеволода Петровича Шестакова (1895-1938) и Татьяны Михайловны Шестаковой (урожд. Придоновой, по 1-му браку - Ланде)
Морозов: Первый вопрос традиционный – о семейных корнях.
Григорьев: Петр Михайлович Шестаков - это наш общий дед, год рождения 1864-й, если не ошибаюсь, или 1865-й, а год смерти то ли 1914-й, то ли 1916-й. Он был издателем и совместно с человеком по фамилии Тулупов выпускал сборники рассказов из русской истории, различные хрестоматии для школ. Одну из них, кстати, уже после революции лично запретила Надежда Константиновна Крупская, поскольку в этой дореволюционной хрестоматии был такой стишок: “Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда”, да еще с большой буквы “Божия” написано. Но, с другой стороны, видимо, она могла это запретить и потому, что фамилия Шестаков уже звучала тогда, в двадцатые годы. Дядя Сева проходил тогда по процессу эсеров 1922 года как свидетель защиты. А его отец был создателем женских курсов имени Тихомирова, были такие женские курсы, и вообще был довольно известным человеком.
Бабушка - Татьяна Сергеева Посникова - была дворянка, хотя и из обедневшего рода. Когда они поженились, ее дворянство пошло куда-то под откос. Я читал книжки, где говорилось об их знакомстве и участии во всяких студенческих манифестациях 19-го века. В частности, манифестация 1888 г. в Питере к 25-летию со дня смерти Добролюбова, после чего они и загремели в ссылку в Нижний Новгород. Там они стали жить гражданским браком.
Там же оказался Владимир Галактионович Короленко с семьей и они подружились. Короленко им сказал: “Все таки, друзья мои, вы как хотите, но ребенок должен быть зарегистрирован”, повел их в церковь и дал обручальные кольца (свое и своей жены).
О бабушке есть очень интересные воспоминания у Вересаева.
Еще был очень интересный бабушкин брат, о котором даже в энциклопедии есть, он был лектор, известный профессор в различных вузах. У бабушки было пятеро детей: тетя Лида, 1891 г.р., если не ошибаюсь, умерла она в 1960 году; потом была тетя Оля, потом был дядя Сева, потом тетя Наташа – мать этой Марины Зелинской, которая здесь на фото, и потом моя мама …
Вот на этой фотографии все четыре сестры, они снялись, когда приехали в Питер на похороны бабушки в 1928 году, а после этого тетя Наташа оттуда отправилась в ссылку в Челябинск к своему мужу Владимиру Борисовичу Базилинскому. Вот такое предисловие. Теперь о дяде Севе, 1895 года рождения, закончил коммерческое училище, потом – Московский университет.
Морозов: Говоря о семье Шестаковых, Вы упомянули о том, что Наталья Шестакова вышла замуж за эсера В.Базилинского. Кто-то еще из детей ушел в революцию?
Григорьев: Нет, больше никто. Тетя Лида всю жизнь, даже в наши глухие советские времена, вела кружки живого слова в школе. Тетя Оля жила в Воронеже, она была толстовка. Тетя Наташа была женщина очень сурового характера, и она со следователями обходилась очень сурово, когда ее терзали в двадцатые годы. Она встретилась с дядей Володей Базилинским, когда он был сослан в Тверь. Она тоже почему-то оказалась в Твери, и там они познакомились. Базилинский предложил ей руку и сердце, она отвергла. И бедный дядя Володя в расстроенных чувствах рванул из Твери в Питер и попытался перейти финскую границу. Это был то ли 1922-й или 1923-й год. Когда его, беднягу, арестовали, тетя Наташа его пожалела и поехала к нему. А потом она его так и сопровождала, и сестры тоже рождались, кто в Березове, кто в Казани. А потом она в Воронеже была одна, без мужа, с тремя детьми. Тетке Ольге, толстовке, и ее второму мужу Александру Николаевичу Максиму, в Воронеже был построен дом, и мы туда на отдых приехали с мамой и с моим младшим братом в 1941 г. в конце мая. Потом через месяц началась война, и тетку Наталью арестовали 23-го июня 1941 года как жену врага народа. К этому времени дядя Володя уже был расстрелян в Ярославле. Там он и закончил свой путь. В бумагах 1960 года писали, что причина - тиф, понос и все прочее. Тетю Наташу выпустили довольно быстро, но, естественно, никуда не брали, а на руках трое детей: двое ее и Таня. Она написала грозное письмо в НКВД: или уж меня сажайте обратно, или дайте мне где-то работать. Времена были сумасшедшие, был август 1941-го, но, в общем, ее взяли на работу, и опять по какой-то детсадовской линии она работала, вроде методиста что ли. И там мы прожили год.
Шестакова: Она была в институте педагогическом ассистентом.
Григорьев: Ну вот, мы год прожили там, в этом доме. А когда немцы подошли к Воронежу, в ночь с 14 на 15 июля 1942 года мы все понеслись: тетя Наташа с тремя девчонками и моя мама с двумя мальчишками. Мне было шесть, моему младшему брату Севке было два. Папа наш художник был, в Воронеже работал в окнах ТАСС. Мы были прописаны в Москве. Папа просто приехал к нам. Он тоже с нами пошел, но поскольку мы убежали абсолютно безо всего, папа, дойдя до какой-то станции, сказал, что он пойдет обратно, забирать теплые вещи (шубы какие-то зимние) и пошел обратно в Воронеж, уже когда немецкие танки полгорода заняли. Самое страшное мое воспоминание - это как когда мы перебегали через последний мост, над нами летал немецкий самолет с нарисованной на фюзеляже оскаленной мордой. Рядом бежала корова, и у нее из шкуры красные фонтанчики били, и она отчаянно мычала, жутко, она не мычала, она ревела. А потом уже был разбомбленный поезд... Мы как-то добрались до Тамбова, где умер брат, и потом мы совершенно диким путем вернулись в Москву, где-то обманывая, прячась. А тетя Наташа дошла с детьми в деревню Невешкино, потом был Поим, потом что-то еще жуткое, а потом обратно в Воронеж, но это уже было в 1944-м, а дальше она во Владимир перебралась. Вот, собственно, и все, а теперь я буду молчать.
Шестакова: Задавайте вопросы.
Морозов: Хорошо, давайте попробуем. В своих мемуарах эсерка Берта Александровна Бабина вспоминает, в частности, о своем пребывании в 1922 году в Бутырской тюрьме и о том, что режим у них был вольный и люди находили возможность общаться друг с другом и даже влюбляться. Она описывает, какой фурор произвело, что при уходе эсеров на этап одна из молоденьких женщин, заявила, что пойдет вместе с Всеволодом Шестаковым, потому что считает его своим мужем. И всю ночь в камеру ее прежнего мужа Моисея Ланде бегали молодые девчонки и отпаивали его водой.
Шестакова: Валерианкой.
Морозов: Да, вероятно, валерианкой. И вот так неожиданно, в общем-то, сложилась судьба Ваших родителей. И в других воспоминаниях, у Е.Л.Олицкой, отмечается, что чекисты мужей и жен всегда разводили по разным тюрьмам и старались даже в ссылки вместе не посылать. Но Шестаковы и первый ее муж Моисей Ланде были исключением - их всегда старались соединять в ссылках и в тюрьмах, чтобы таким образом испытывать их на прочность. Расскажите, пожалуйста, о такой неожиданной истории любви. Сколько лет потом Ваши родители были вместе?
Шестакова: Так вот, начиная с Соловков, и до гибели отца в 1938 году. Причем я помню, что мне мама рассказывала, как в Савватьеве на Соловках все ринулись занимать лучшие места, а они скромно заняли самое плохое место. Вот это я помню, я вспоминаю то, что она мне говорила, а о расстреле 19 декабря 1923 г. она все от меня скрыла. Этого всего она мне не рассказывала. Но у меня осталось впечатление из этих разговоров, что им там было неплохо. А какую там играл роль первый муж, она никогда не говорила.
Морозов: А что она вам рассказывала о Соловках?
Шестакова: Знаете, она подробно не рассказывала. Она говорила, что они с отцом были счастливы. Причем она говорила, что папа влюбился в нее; а она упорствовала, она не хотела бросать Моисея, у них ребенок был, моя старшая сестра Виктория Моисеевна; она помнила о ребенке, она не хотела бросать его. Но подруги ее убеждали, уговаривали, в общем, как-то они ее уговорили, и она ушла.
Морозов: Но Бабина вспоминает, что он довольно быстро влюбился в анархистку Катю, и потом у них была довольно крепкая любовь и крепкая семья.
Шестакова: Не Катя, а Милица.
Морозов: Ну, я сужу по воспоминаниям Бабиной.
Шестакова: А по моим воспоминаниям, как мне говорила мама, Милица ее звали.
Морозов: А фамилию ее Вы не помните?
Шестакова: Фамилию нет, но что это не Катя, а Милица помню.
Морозов: Хорошо.
Шестакова: Вот, а потом они с Соловков поехали в Сыктывкар. И там я у них родилась в 1927 году. Причем они перед самым моим рождением получили свидетельство о разводе, а потом свидетельство о браке, т.е. мама развелась с Ланде и зарегистрировалась с Шестаковым. Между прочим, когда я родилась, нас было двое. Они почему-то ждали мальчика и назвали его Виктор. Я сразу стала есть, а он не ел. Звали его Виктор, Виктор – победитель. Но он умер сразу. А я вот выжила, хотя врачи сказали, что не выживу. А выжила я после того, как меня зарегистрировали. Стали думать, как меня назвать. И назвали таким диким именем, Титания. Но оно меня здорово выручило, это имя, когда я 1950 г. училась в Москве на первом курсе в судостроительном институте и жила без прописки. И вдруг в середине года появляется объявление, что проверяется прописка. И если окажешься непрописанным, из Москвы удаляли. Вывесили списки, а меня там нет. Я ждала, что вот меня удалят. Получила паспорт, но прописки нет. И вдруг мне говорят: Вас вызывает начальник милиции. И вот я думаю, все, сейчас меня будут выгонять. Пришла. Он мне сказал: “Я хочу на Вас посмотреть. Как это я умудрился в первый раз в жизни непрописанному человеку поставить штамп в паспорте? Как это получилось?.. а-а-а-а, - говорит, - так это имя такое”. Говорит паспортистке: “Я все удивлялся, удивлялся, что это за имя такое, прописку не посмотрел. Штамп поставил”. Вот меня из Москвы если бы вытурили, как бы моя жизнь дальше сложилась?
Морозов: Что-нибудь Вы помните из первых лет Вашей жизни в Усть-Сысольске.
Шестакова: Все это было такое бытовое, что я могу сказать?
Морозов: Родители в 1927-м году находились в Сыктывкаре? После Соловков они не разлучались все двадцатые годы? Они были вместе в Тобольском изоляторе, в Перми, в Усть-Сысольске, да?
Шестакова: Да.
Морозов: И до какого времени они были вместе?
Шестакова: Они были вместе до папиного расстрела, до 1938-го года. Ну вот, после Усть-Сысольска, когда мне года два или три было, они в Воронеж поехали.
Морозов: В 1929-м году.
Шестакова: Что это было? Добровольно они поехали или это была ссылка в Воронеж до 1936 года? Очевидно, это была не ссылка, потому что отца сослали в Оренбург. А в 1936-м году его арестовали.
Григорьев: Да, я 1936 года рождения, и дядя Сева сказал: “Вот какие племянники бывают”, т.е. он меня видел, я, естественно, его не увидел.
Шестакова: В 36-м году его сослали в Оренбург. А арестовали его по обвинению, будто бы он был террористом, возглавлял какую-то организацию.
Морозов: Татьяна Всеволодовна, Вы своего отца, конечно, помните. Вам было шесть лет. Расскажите о нем то, что вы помните.
Шестакова: Это был высокий человек, с черной бородой, очень строгий в отношении моего воспитания. Мне было семь лет, но я не имела права интересоваться какими-то там тряпками, платьями. Он уже тогда меня так воспитывал.
Морозов: А он это делал из идейных соображений?
Шестакова: Я не знаю, из каких. Просто помню из своих восприятий. Может быть, он кокетства боялся. Я не знаю, что у него в голове было. Но я как-то по-детски это запомнила.
Морозов: Какой Вы помните жизнь ссыльных в Оренбурге?
Шестакова: Ссыльные были очень дружны между собой, они часто собирались… Я помню, я засыпала на коленях у мамы под пение “Варшавянки”. А о чем они говорили, я, естественно, не знаю.
Морозов: Какие песни Вы еще запомнили?
Шестакова: Песни? “Вставай, проклятьем заклейменный”, “Варшавянку”, все кончалось песнями. Они разговаривали, выпивали, наверное, но всегда это кончалось песнями. Может быть, эсеры с эсерами собирались, по партиям, я уж не помню. А потом вдруг - помню очень хорошо - обыск. Пришли ночью. Всегда приходили по ночам. И начали перерывать все бумаги, вещи. Очень хорошо помню, как папа выходит из другой комнаты и говорит: а вот еще это. То есть он не только не скрывал что-то такое, а наоборот показывал: а вот еще это.
Морозов: (смеется) Как старый революционер, он, наверное, хорошо подготовился к обыску и знал, что можно показывать, потому что все предосудительное уничтожил, наверное…
Шестакова: Да, ведь с 1917 по 1920 год он был членом московского комитета эсеровской партии. И был избран в московский ЦК…
Морозов: Нет, он был избран членом эсеровского ЦК. Вы знаете, ему на этот момент было 25 лет. Это самый молодой член ЦК эсеровской партии. А что касается условий подпольной работы в 1918-1920 гг., то я думаю, что там год идет за три.
В Оренбурге арестовали только Вашего отца? А что было с Вами после этого?
Шестакова: А после этого мы с мамой немного пожили и вернулись в Воронеж. И отца туда этапировали.
Морозов: Ваша семья репрессиям не подвергалась? Мать уже не сажали?
Шестакова: Как это так! Она год, наверное, прожила у тети Наташи, а потом арестовали и ее саму. И она там устроила голодовку. Целью голодовки было свидание со мной. Я помню это свидание очень хорошо. Тут решетка, тут решетка, здесь конвоир, и мы держимся за прутья и смотрим друг на друга. Мама была бледненькая, как мел, после голодовки. И она на меня смотрела, смотрела, глаз не сводила, я помню, этим взором материнским. А я ребенком была: мамочка, мамочка… ревели, конечно, но все равно не осознавала, конечно, этого трагизма. И потом я помню только, как она сказала: а Наташа нашла кругленькие? Но конвоиры не поняли. Ну, а потом я спросила тетю Наташу, что за кругленькие. Оказывается, в ее бумажнике прятали золотые рубли, царские.
Григорьев: Я только что разобрал это письмо от дяди Севы, оно все-таки дошло до тетки Натальи, здесь год непонятен, но, видимо, 37-й. “Дорогая Наташа, то ли с 16, то ли с 17 голодаю против вымогательства ложных показаний. Силой таскали голодающего на допрос. 27-го перевели в больницу Гаазе. Голодовку продолжаю. Никому не говори, что знаешь об этом. Сообщи, где и как Таня и Танюшка. Живы ли, здоровы? Как Володя и Хихина?” Кто такая Хихина? Володя - это Владимир Борисович. А кто эта Хихина какая-то? “Последний может только лично… Посланного постарайся угостить и пришли с ним денег и папирос. Главное же, что и где Тани. Я бодр и даже почти весел. Всех обнимаю и крепко целую. Вс. Гарантируют расстрел по спискам. Но скорее 10 лет тюрьмы. Какая-то грандиозная провокация. О том, что я в больнице лежал, никому не говори и не подавай вида, что что-то знаешь”. Ну, вот такая выразительная записочка.
Шестакова: Когда мы жили в Воронеже, отец заболел. Он давно болел синуситом. […]Но ему это лечение не помогло, и он лежал в больнице и умирал. Умирал. А я в это время заразилась септической скарлатиной. Тогда были эпидемии детской септической скарлатины, и я умирала в одной больнице (мама со мной была), а он умирал в другой. И мама посетить его не могла, потому что ее не выпускали доктора. Она говорит, что меня уже положили в палату смертников, я уже была синяя вся и умирала[…] там все дети умирали, как мухи. Никого не могли спасти. Тогда не было пенициллина.
Мама, поскольку она была медик, знала, что кровь матерей, перенесших корь, переливают заболевшему ребенку, передавая ему ее иммунитет к болезни. Ну, ей по аналогии и пришла в голову мысль, что так как она тогда легко переболела скарлатиной вслед за мной, попробовать перелить свою кровь мне. После первого же раза у меня сразу упала температура с 40 до нормальной, потом второй перелив, потом третий перелив, и кое-как я выкарабкалась. Но у меня было осложнение на ухо, и с тех пор я потеряла слух. А отец умирал в другой больнице. Мама как-то передала ему – “Но она просит есть. Ест, ест, ест”. А с едой было плохо. И он тогда решил, что он должен встать, пойти на базар, купить курицу и принести мне. А он вообще умирал, не вставал вообще. Ну, и когда он врачу сказал, врач махнул рукой: делай, что хочешь. И он встал и пошел. И мама говорила, что он шел – два шага и потом сядет. Два шага и сядет. Так вот он и шел. Купил эту курицу и принес мне в больницу. Мама когда увидела его, испугалась - мертвец какой-то. Но это его спасло. Потому что он стал каждый день ходить, каждый день носил мне еду. И меня он спас, и сам спасся”
Морозов: Какие разговоры велись в Вашей семье? Вы ведь учились в советской школе…
Шестакова: Я в первый класс пошла в Оренбурге. И никаких разговоров не велось.
Морозов: А как Вас воспитывали в семье?
Шестакова: Я плохо слышала. Я была глухим ребенком. И поэтому мама очень боялась, чтобы я не попала в такую, специальную школу. И она все время со мной занималась. Короче говоря, когда меня привели в школу, мне было восемь лет уже. Директор школы и говорит, мол, ее можно только в специальную школу. Но когда стали проверять, оказалось, что я умею читать. Мне восемь лет было, я помню, я читала Спартака, я читала в третьем классе “Войну и мир”, в общем, я была книжным ребенком.
Морозов: А рассказывали ли Вам родители о своих взглядах…
Шестакова: Никогда!
Морозов: Никогда?
Шестакова: Никогда! Ну что Вы! Ребенку рассказывать!
Морозов: А позже? Позже мать вела с Вами такие разговоры? Когда Вам уже было 16, 17 лет? В 18 лет?
Шестакова: В 17-18 лет я была секретарем комсомольского комитета школы. Я была комсомолкой. И, конечно, мама ничего мне не говорила. После ареста в Воронеже ее отправили в Тюменскую область, в лагерь, а я оставалась в Воронеже. В 45-м, когда уже кончилась война, ее освободили, но она оставалась на поселении около лагеря, и я к ней туда поехала. Месяц я ехала в пятисотых поездах. Это были теплушки, набитые воинами Красной армии, возвращавшимися с фронта. И вот в этой теплушке я месяц ехала с красноармейцами. Приехала к маме в туберкулезе и с малярией. И вот из-за того, что я поменяла климат, прошла малярия. А от того, что мама меня начала кормить, прошел туберкулез. Он, наверное, еще прошел потому, что я много была на улице. Ночевала даже на улице, и затянулись каверны. Мы с мамой жили в одной комнате с женщинами-уголовницами, мы с мамой были на койке одной, валетом. Мама говорила: не смотри на них, они этого не любят. И еще она мне сказала: “Ни с кем не разговаривай. Ни с кем, к тебе будут подходить, тебе будут говорить, тебя могут…” Она не сказала это слово “спровоцировать”, я это слово не знала, но она боялась, что могут спровоцировать. А тут пришла ее приятельница, с которой как раз можно было разговаривать. Она-то имела в виду уголовниц. А с ней-то можно было разговаривать, но я, помня наказ, ей абсолютно ничего не отвечала и молчала. Она махнула рукой и так и ушла, огорченная. Ну, а потом мы с мамой путешествовали по всей стране. Когда ее от поселения освободили, мы в Казахстан поехали, жили на станции Булановка, там были ссыльные немцы, там я училась один год. Потом мы с ней через Москву попали в Рустави, ей приходилось выбирать всякие такие места, она нигде не имела права жить. В Рустави было строительство закавказского металлургического завода, там ее вновь арестовали, это было в 49-м. В Рустави осталась я одна. Более того, я кончала школу, 11-й класс. Я каждый день ездила в Тбилиси и бросала в ящик НКВД записки, спрашивала, зачем они ее арестовали. Писала, что я комсомолка, что я секретарь школы, что меня идейно правильно воспитывали, на меня не могли какого-то плохого влияния оказать, что мама больной человек, только что из больницы.
Морозов: А Вы не боялись, что…
Шестакова: Я ничего не боялась, я ничего не понимала
Морозов: У Вас не возникало когда-нибудь ситуации, чтобы Вас заставляли отказываться от своих родителей?
Шестакова: Нет. Я помню, что мама появилась неожиданно. Ее отпустили совсем, хотя всех, кого забрали из Рустави, отправили в Норильск. Ей сказали: “Ваша дочь нас замучила”. После этого мы поехали в Москву к Вике и к тете Тамаре. Это мамина младшая сестра. Я поступила в институт и осталась, а мама уехала на Алтай. Там в одном из городов был свинцовый завод.
Морозов: Насколько я понимаю, Ваша мать опасалась Вас воспитывать так, чтобы, не дай бог, Вы не пошли по ее стопам. Она не мешала Вам, не препятствовала Вам быть честной комсомолкой и не пыталась рассказывать Вам о своих взглядах?
Шестакова: Нет, нет, нет.
Морозов: И Вы вообще не вели с ней никаких разговоров о политике?
Шестакова: Никогда!
Морозов: А Вы знали, что они были эсерами?
Шестакова: Мне мама как-то сказала: “Танюша, запиши все о моей деятельности, о папиной… О Соловках, это все я еще помню, это пригодится, давай записывай…” Она все это предвидела, что Вы придете и будете спрашивать. Но это было такое табу. Тетя Наташа запрещала мне даже, когда мы жили в эвакуации в Воронеже, маме писать. Она боялась, что если она будет писать, то ее заберут. Это был такой страх и ужас… Я была так этим напичкана, нельзя сказать…
Григорьев: Таня, а об отце она тебе что-то говорила? Куда делся папа?
Шестакова: Конечно, говорила
Григорьев: Что она сказала?
Шестакова: Она сказала, что он эсер, и его расстреляли.
Морозов: А как Вы относились к их взглядам? Как Вы примиряли свое комсомольство с их эсерством?
Шестакова: Я никак не примиряла. Напугана была до смерти… Потом мы с мамой переехали в Ангарск, я перевелась в институт. Меня декан вызвал и спросил: “Почему Вы скрыли, что Ваша мама…?” Я когда поступала, скрывала…
Морозов: Вы скрывали и когда в комсомол вступали?
Шестакова: В комсомол? Ну, я не помню. Я забыла, как это было. Меня принимали в комсомол в девятом классе.
Морозов: И чем кончился Ваш разговор с деканом?
Шестакова: Чем кончился? Я честно сказала, что я боялась писать. Я спросила: “Ну, а как Вы меня приняли? Приняли или нет?” Он молчит. И потом я долго ждала последствий этого разговора. А потом наступила осень, и мне даже дали допуск к секретным материалам.
Морозов: А последние годы, когда Ваша мама жила уже с Вами, она Вам что-то рассказывала о своей деятельности? До какого года она с Вами прожила?
Шестакова: До 88-го. Она хотела мне рассказать, но я отказалась, так была напугана.
Морозов: Но ведь это уже была перестройка, с 86-го года стали публиковать документы.
Шестакова: Мы все равно боялись. Мы в страхе так и прожили. В реабилитации нам отказали.
Морозов: Может быть, Ваша мама вела какие-нибудь дневники?
Шестакова: Нет, кроме записи рецептов тортов, она ничего не писала. Она бухгалтер была. У нее был очень твердый характер, она была лидер, ее уважали, ее слушались, даже когда она была в тюрьме, ее уголовники слушались.
Морозов: А что-нибудь об отце из рассказов матери Вы помните?
Шестакова: Нет, я только помню, как они поженились, как ее уговорили, она не хотела. О политике она боялась говорить, она боялась за меня.
Муж: Я пытался с ней разговаривать об эсеровских делах, а она краснела и говорила: “Мы хотели того же самого , но другими методами”.
Морозов: Это очень эсеровский ответ. А подробнее разговоры были?
Муж: Никаких подробных разговоров не было.
Шестакова: Но ты же спрашивал про программу.
Муж: Вот она как раз говорила, что они хотели для людей того же, что и большевики, но другими методами.