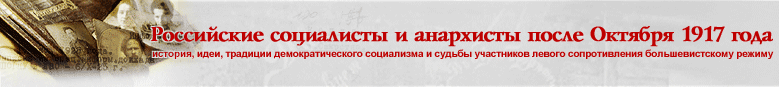
главная / о сайте / юбилеи / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Беседа с Дмитрием Дмитриевичем Донским,
сыном члена ЦК ПСР Д.Д.Донского.
Донской: Вы эту книгу Яковлева о Донском видели? Знакомы с ней? Здесь, на этой странице - больница, о которой идет речь, и ее строитель в халате. Для более близкого знакомства: самый психологически верный портрет, из всех сделанных за всю жизнь (перебирает фотографии). Всмотритесь, вдумайтесь. Здесь официально формальный, перед фотографом, а это во время работы. Из семейного домашнего архива Донских. Особенное внимание на эту фотографию. Это мать и отец Дмитрия Донского. Это дом, о котором я буду говорить достаточно много. Отец… Это ваш покорный слуга. Пребывание в первой ссылке в Сибири. Бабушка и дедушка приехали, зимой были. Учредительное Собрание в день открытия, он не был на нем. Родня, дом, кое-что из Парабели. Знаменитая карта, по которой он за 50 - 60 км зимой один по вызову выезжал - он с кучером никогда не ездил. Это последняя наша встреча, 1935 г., за год до его кончины. Я к нему ездил. Это остяки, дальше уже идут школьные, неприятные люди. Этот портрет как-то наталкивает на некоторые мысли, раздумья.
Морозов: Расскажите о Ваших первых детских воспоминаниях об отце.
Донской: Я родился в Мюнхене, 28 ноября (новый стиль, 15-е старого стиля) 1910 г., первые два года жил у родителей. В последующие 10 лет переехал к родителям отца в г. Хмельник, Каменец-Подольской губернии. В этот промежуток мы не виделись, кроме первой ссылки отца, первой после эмиграции, в Тобольской губернии, до февральской революции, которая его освободила; там его мобилизовали, там он ушел в армию и стал военным врачом. Я оставался у бабушки в Хмельнике, только в 1922 г. мы окончательно порвали с Хмельником. Продали все, что можно продать, и уехали.
Детские впечатления относятся только к селу Черное Тобольской губернии, где я провел почти целый год у родителей вместе с бабушкой и дедушкой, которые вскоре уехали. Впечатления очень сильные, потому что для меня не было на свете более авторитетного человека, чем отец, более близкого, чем он. Хотя мы с ним виделись очень мало и в разных ссылках, и в разное время, в том числе, и в тюрьме на Лубянке, куда на протяжении почти двух лет мы ходили раз в три месяца на свидания, с его мамой и моей мамой, настолько часто, что я Внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке в те годы наизусть запоминал, память была у меня хорошая.
Отец был человек всегда собранный, всегда внимательный ко всем, всегда, я бы подобрал такое неформальное слово: всепереживающий. С кем он общается, с тем он немедленно вступает в тесный контакт. Обладает огромным даром: завоевывает людей с первого взгляда, именно гуманитарной, человеческой, мыслительной, духовной стороной, не говоря о том, что с ним общались всегда, как правило, в критические моменты разных событий, которые были. Со мной играл немного.
Морозов: Рассказывал ли Вам что-нибудь отец о своем эсеровском прошлом, о партийной работе до 1917 г.?
Донской: До 17-го года мы с ним виделись только в первой его ссылке в Сибири, в Черном. Я был 7-10-летним мальчонкой, что со мной говорить, я ничего оттуда не помню, из того общения. То, что знаю, все из литературы, то, что и так широко известно. Во всяком случае, надо полагать, что начало его подпольной жизни и переход на революционную работу – это побег из ссылки после ареста и осуждения в 1900-е годы, в конце где-то, я точно не знаю просто, середина 1900-х, когда он, не доехав до места ссылки, бежал и ушел на подпольную работу, где и познакомился со своей женой. Она тоже была на подпольной практической работе, хотя и не была в партии, а в основном вела кружки за Нарвской заставой, занималась общественной политической деятельностью; потом ей поручали работу с молодыми эсерами, пока она не попала под наблюдение охранки и вынуждена была бежать навсегда за границу до возвращения в ссылку, в Черное, в Сибирь. Перед мировой войной они вопреки настояниям матери и отца поженились, устроили торжественную свадьбу, чтобы облегчить совместное семейное возвращение и отбывать ссылку вместе.
Городницкий: Говорил ли что-нибудь Ваш отец о Борисе Савинкове?
Донской: О Савинкове в рассказах родителей сохранилось, что одно время в Мюнхене они хранили динамит для Савинкова. Отец сказал: ну, если что-нибудь случится, вообще никого не останется. Хотя динамит без детонатора не взорвется.
Морозов: В 1910 г. Савинков был готов принять Донского в свой боевой отряд, в Боевую Организацию. Слышали ли Вы что-нибудь об этом?
Донской: Нет, не слышал. О боевой организации, нет, не слышал. У меня поверхностное впечатление, что они были просто знакомы, имели контакты, но не более. А что касается хранения динамита, то мама потом этот динамит вытащила и забросила в озеро.
Морозов: Каковы Ваши воспоминания о событиях лета и осени 1917 г.?
Донской: Лето и осень 1917 г. прошли в переходном отрезке от февральской революции, освободившей отца из ссылки в Сибири, до октября, до Учредительного Собрания. На этом Учредительном Собрании на первом заседании выступал муж сестры моей мамы, тоже член ЦК партии, Ельяшевич, его в советские время в поздние времена было репрессировали, но один крупный физик с достаточным весом, сумел освободить семью и вернуть обратно в Ленинград. Этот период был вне нашего поля зрения. На этом заседании Учредительного Собрания была моя мама. И об этом она в своих воспоминаниях пишет. Дальнейшее известно - преобладание эсеров в этот день, уход большевиков, и на следующий день правительственными актами закреплена победа пролетарской революции, которая, естественно, была обеспечена благодаря положительному отношению крестьянства к решению большевиками земельного вопроса.
Как известно, Ленин неоднократно в разных местах замечал, что в вопросе о земельной политике большевики сходны с правыми эсерами. Мое личное отношение к этому тесно связано с тем, что я прожил сложную жизнь, в которой сам должен был находить свой путь.
Кан: Какова была роль родственников Вашей мамы в семье Филипченко? И каковы Ваши воспоминания об этой семье – Филипченко?
Донской: Да, родственники матери. От отца Надежда Михайловна Филипченко-Донская скрывала свою подпольную деятельность, потом она уезжала, мать, за границу, на свадьбу; непосредственной связи родственников не было, в период эмиграции это была очень тесная и дружная, веселая молодежная компания, приверженная искусству, музыке, скульптуре, сама мама занималась художественной резкой меди.
Семья отца гораздо большую роль играла; а вот это его мать, Софья Алексеевна, поглядите, какая потрясающая тонкость вкуса молодой девчонки, бежавшей из семьи, которая кормила себя и мужа вот этими вышивками; в этом знаменитом доме в Хмельнике, я о нем хотел немножко сказать, вот такими гобеленами были увешаны ширмы, дверцы шкафов, стены библиотеки. В том, что Донской проявил себя таким умелым организатором и строителем Парабельского здравоохранения, огромная роль его матери. Чрезвычайная, буквально творческая, неотступная деятельность матери, которая пришлась на школьные и начальные студенческие годы отца, оказала на него огромное влияние. Он видел, как это можно делать, как это делают, как охватывать буквально все, разносторонне, не отступая, не торопясь. Когда они приехали из Варшавы, то на протяжении примерно 20 лет она вынашивала идею создать дом и сад. Сад, одна десятина, весь был из насыпной земли, которую свозили из окрестностей. Этот сад - чудо архитектуры садовой. Она чрезвычайно властный и твердый человек. Десятки лет она строила этот центр, в котором создавала удивительную библиотеку. Не имея высшего образования, по сути дела была человеком высшей культуры. Весь этот парк, весь этот сад, сохранился до сих пор: после войны – госпиталь, санаторий отдела внутренних дел Украины, радоновые источники, курорт государственного значения, изумительные конюшни, много дополнительных построек. Словом, большой курортный центр. Он не погиб.
Кан: Общались ли Вы с кем-нибудь из семьи Филипченко, в частности с Юрием и биологом Александром?
Донской: У дяди Юрия (дядя Бом) я работал в его лаборатории год, когда не попал в институт с первого захода. Дядя Шура родной был человек, близкий родственник, и тот, и другой – они тесные друзья всех трех сестер Филипченко и по загранице, по эмиграции, и просто в обыденной жизни. Из книги я узнал, что Юрий Александрович когда-то чуть интересовался эсерами. Так было дано задание следить за перепиской Донской, Парабель, – и Юрий Александрович Филипченко, Ленинград.
Кан: Каковы Ваши впечатления о братьях Юрии и Александре Филипченко? Их внешний облик, манеры, взгляды, привычки?
Донской: Русская интеллигентность самого высшего класса. Александр Александрович ведь еще прошел каторгу. Он, кстати, погиб, полег на делянках. Подтянутые, стройные, чрезвычайно интеллигентные люди высшего уровня. Что касается их политических взглядов или прошлого, ничего об этом я не знаю. Я был мальчонка, студент. Какие могут быть речи? Он бравировал тем, что часто восклицал про советские газеты: “Ну, кто их газеты читает”? Но если сторож не принес каких-то газет: “Почему нет газеты”?
Морозов: Что-нибудь Вам рассказывал отец о своей встрече с Фанни Каплан летом 1918 г.?
Донской: Да, то же самое, что он говорил на процессе, что он был последний человек, который говорил с ней перед покушением, и что он ей дословно сказал то, что Солженицын повторил в “Гулаге”: “Если Вы посмеете стрелять в Ленина, мы Вас исключим из партии”. И после этого добавил два слова: “Ну, подумайте”. На процессе эти последние два слова, “ну, подумайте”, трактовались как согласие Центрального Комитета партии на покушение на Ленина. Об этом он говорил очень коротко, но то, что я знаю о покушении и о судьбе Каплан, я знаю из разных источников, но не от него. Главное, сказал так, что “мы не позволили от партии выступать”.
Морозов: В своих воспоминаниях эсерка Бабина говорила, что Донской, говоря о Фанни Каплан, называл ее экзальтированной бабенкой и предлагал пойти проспаться. Мог ли Дмитрий Дмитриевич такое сказать? Насколько это вообще было в его стиле?
Донской: Я не знаю, я где-то когда-то слыхал эту грубую характеристику Каплан, о которой идет речь в вашем вопросе. Но я думаю, что вряд ли они обстоятельно обсуждали это между собой, потому что человек она была экстравагантный, вплоть до того, что были сомнения, именно ли она стреляла. Были предположения, и, вероятно, достаточно достоверные, что стрелял другой, который вместе с ней был на собрании, и о том, что это было известно, но ее быстро взяли и быстро расстреляли.
Морозов: Расскажите о своих свиданиях с отцом летом 1922 г. в тюрьме.
Донской: Держались они великолепно. Но характерная деталь – в те годы, когда еще можно было подшивки старых газет брать в библиотеке, я взял подшивку за 1922 год и заметил, что в отдельном ряде корреспонденций есть ремарка: “Донской, как обычно, отмалчивается”, ибо к тому времени у него полного согласия с тактикой этого кратковременного противостояния не осталось. Такие, как Гоц, Тимофеев со страстными партийными речами выступали… Не знаю, было ли где-то или нет, что Николай Александрович Семашко, лично знавший Донского, когда директор Института марксизма Рязанов взял отца под свое поручительство и его выпустили из тюрьмы в 1919 г., предложил ему заведование организационным отделом. Подумайте, это же ведущий отдел министерства, а это заключенный, выпущенный только под залог. Он ему поручил курорты и санаторное дело. Но прежде, чем отец к этому приступил, его опять арестовали.
Морозов: Расскажите, пожалуйста, о процессе 1922 года все, что Вы помните.
Донской: В Колонном зале Дома Союзов на большой сцене были места для подсудимых первой группы и второй отдельно, для защитника и прокурора, председатель суда Пятаков – друг детства Надежды Михайловны. Меня сразу допустили, когда я приехал, к первому свиданию с ним, вне всех очередей и порядков. Вообще наряду с тем, что когда были непорядки, за ноги вытаскивали из комнаты свиданий, когда возник конфликт на одном из свиданий, было и то, что на месяц – отец был позже с семьей под охраной, конечно, отправлен в совхоз ОГПУ для оздоровления. В совхоз Вороново, по-моему. Но перед освобождением, насколько я помню, сперва отец объявил голодовку, борясь за право влиять на выбор места ссылки.
Морозов: Каковы были взгляды Вашего отца в 20-30-е годы? В своем сборнике документов Яковлев выдвинул предположение, что Донской до начала 30-х годов не имел просоветских взглядов, но сына воспитывал в коммунистических взглядах, чтобы уберечь от репрессий. Какова была эволюция взглядов Вашего отца?
Донской: В 20-30-е годы, я думаю, он не мог не видеть всего того положительного, что приносит Советская власть, коллективизация. Он отрицательно относился к переселенцам, кулачеству, отказывался их за счет местного населения лечить, за что его упрекали сильно; но прямо сказать, что Яковлев заблуждается, ошибается, я не берусь. Это точка зрения, которая имела место. Хотя мое личное убеждение такое, что для него важнее были конечные цели, социализм-коммунизм.
В этой книжке автор затрагивал то, что Донской со временем начинал признавать достижения Советской власти. И что упорно ОГПУ - НКВД и прочие вели с ним работу, чтобы добиться от него признания правоты большевиков. Это признание он наотрез отказался давать, с глубоким презрением относясь к перебежчикам и предателям, даже если бы за это ему, скажем, ликвидировали ссылку, дали паспорт и т.д. Он написал труд “Восемь лет работы Парабельского медицинского участка”, в котором старался раскрыть, что значило создать этот медицинский участок, чем для Нарымского края, для этой маленькой Парабели, глухой запущенной деревеньки, был этот значительный культурный, я не побоюсь сказать, центр. Впрочем, это не очень удачно сказано, центр подразумевает какую-то организационную структуру, а больница была центром здравоохраненческим, отнюдь не политическим. Но Парабельская больница - это не просто здравоохраненческий орган, это своего рода центр, не центр, очаг, очаг культуры. Сейчас там большой город. Кладбища снесены. Место, где была могила, отмечено, нашли это место. Вы знаете, что через несколько месяцев после его кончины также умерла женщин, которая в последние годы, когда мать уехала, была верным надежным помощником во всем. Кстати, на работу в больницу ее направила сама моя мама. Она из местных жительниц.
При моем посещении Парабели отец с увлечением и интересом рассказывал, как он занимался не только лечебной работой, но профилактической работой, созданием здравоохранения на селе, готовил кадры к предстоящей коллективизации, т.е. у него широко была поставлена подготовка вспомогательного персонала для здравоохранения из местного населения. При его беседах с больными он советовал идти в колхозы. Он участвовал в комиссиях, которые проводили те или иные мероприятия подготовки к колхозному строительству от имени правительственных органов, так что это не только словесное стремление оградить родных, как это полагает Яковлев. Это его личное убеждение, это его понимание того, что когда он вернулся из Новосибирска (кажется, его туда в командировку увезли), он был поражен прогрессом жизни в этом большом городе. И его высказывания нигде не зафиксированы, но все же звучат так: это путь достижения социализма, но не прямо так.
Донской был осужден как контрреволюционер к высшей мере. Последние слова, которые он в жизни написал, были адресованы суду, который над ним должен был состояться из-за смерти больного после операции аппендицита: я не контрреволюционер. Странное стечение обстоятельств.
Морозов: Как шло формирование Ваших взглядов на окружающую действительность? Оказывал ли на их формирование Ваш отец?
Донской: Из недетских впечатлений я считаю очень важным мое общение с ним уже во взрослом состоянии. Окончив школу в 1926 году, я год прожил в тайге, вместе с ним выезжал на вызовы, жил таежной жизнью, настоящей, как следует.
Один из моих первых вопросов: “Папа, в чем у тебя разногласия с большевиками”?
(Четко, подчеркивая каждое слово): “Раз и навсегда: от меня ты ничего не услышишь. Свое мировоззрение вырабатывай сам. Живи, смотри, учись, иначе ты будешь думать моими мыслями, а не своими”.
Мое собственное мировоззрение начало вырабатываться после того, как я поступил в медицинский институт, это был 1928 год. До этого я уже в течение года жил у отца после окончания школы и постепенно начал выходить из детского состояния. Я ведь кончил школу раньше 16 лет, и два года меня не принимали в институт, но очень авторитеный профессор, терапевт Георгий Федорович Ланг уговорил принять меня условно, до первой экзаменационной сессии, когда, естественно, был огромный отсев, потому что большая часть принимаемых были рабфаковцы, фельдшера, военные санитарные деятели времен еще мировой войны, они в отцы нам годились и к учебе приспособлены не были. И они не смогли продолжать учиться. И нас, двадцать человек этих условных, приняли прямо после экзаменационной сессии зимой. К этому времени я впервые столкнулся лично уже как немного думающий с рабочей средой. Образование получил предварительно клочковатое, но очень основательное; учился только на “отлично”. Уже на втором курсе меня из слушателя кружка профсоюзной грамоты (так назывались кружки политграмоты) назначили руководителем кружка на первом курсе, и младшие курсы меня всегда считали комсомольцем вплоть до такого курьеза, что на выборах комитета комсомола младшие курсы выдвигали меня в его члены. Вот тут у меня и произошло значительное изменение, вернее, не столько изменение, сколько формирование ранее не сложившихся взглядов.
Я подал заявление о приеме в партию на фронте, после года участия военным врачом в противотанковой артиллерийской бригаде. Партийный билет я получил после Победы, а Политуправление фронта сказало: “Ты, Донской, обиды на партию не держи. Мы не могли тебя принять кандидатом в партию с 42 по 45 год”. Перебрасывали из госпиталя в госпиталь, с фронта на фронт, и другое, но главное, была, конечно, санкция высших партийных органов на это. Добавлю к этому, что хотя и моя мама, и я во всех автобиографиях всегда исчерпывающе сообщали о своих родственных связях, на протяжении всей нашей жизни ни разу ни она, ни я не слышали в публичных выступлениях упоминаний об этом. Хотя было время, когда меня называли вожаком вражеской группировки – это было в 30-е годы, перед войной. Испытывали мы известные ограничения, но редко и не очень в существенной степени.
До сих пор, несмотря на все превратности судьбы, партийный билет я не сдал, и сохраняю полностью веру, основанную на доказательствах, в коммунистические идеи.
Городницкий: Что именно говорил Ваш отец во время Вашего посещения его в 1935 г.? И Ваши впечатления о последней встрече.
Донской: Я доверял полностью тому, что он говорил в 1935 г. о том, как он относится принципиально к советской действительности, он не считал себя совсем советским человеком, хотя шутя сказал однажды: ну, ссыльные меня считают вполне советским человеком. Это шутка.
Морозов: Общался ли Ваш отец со ссыльными эсерами и вел ли он переписку со своими бывшими товарищами?
Донской: Из ссыльных эсеров там был сын известного Чернова, Борис Чернов. К нему он относился с нескрываемой иронией. Никаких серьезных разговоров у них, конечно, и быть не могло. У нас он появлялся очень редко, может быть, всего один-два раза, и к нему тоже все относились так, пренебрежительно, как, кстати, и вообще в обществе к нему отнеслись. Потому что Борис Чернов, сын того Чернова, не был продолжателем дела своего отца и не заслуживал особого уважения. Нет, никого не знал, никого не знал просто. Те, кто были здесь, сидели в тюрьме и потом были в ссылке. Больше никого не знал. Жена Тимофеева была просто близкой приятельницей моей мамы.
Морозов: Там же в ссылке находилась Елена Иванова вместе с Донским, она из ЦК партии, которая проходила по процессу 1922 г…
Донской: Я об этом ничего не помню. По-моему, даже не знал об Ивановой в ссылке. Может быть, она и проходила по процессу, но я не знал.
Морозов: Как Вы сегодня оцениваете судьбу Вашего отца и его товарищей?
Донской: Драматическое стечение условий, когда люди отдают всю жизнь за революцию, вступают в борьбу друг с другом. Достаточно сказать, что не менее ожесточенная борьба велась и внутри самой партии большевиков и в то время, и впоследствии тем более. Я помню это как мальчонка, помню руководителей революции Ленина и Троцкого, не Троцкого и Ленина, а Ленина и Троцкого. Для меня – для мальчонки - вождей двое.
Городницкий: Говорил ли что-нибудь Ваш отец о Льве Троцком?
Донской: Нет. Ни малейшего воспоминания о том, чтобы он называл даже имя. Вообще мы с ним глубоких политических разговоров обычно не вели. Причем, знаете, откровенно вам сказать, впечатление это основано на предположении, что каждый из нас хорошо знает друг друга, и так хорошо понимает, что об этом говорить? Мать тяжело болела, не могла вынести жизни, когда она его несколько часов в сутки только и видит, год за годом, год за годом. Никого, ничего, и тяжелая болезнь. Они расстались и были друзьями до самого последнего момента.
Кан: Еще вопрос. Были ли вы знакомы с Иваном Майским?
Донской: К сожалению, нет. Он меня приглашал к себе, но я опоздал, он уже умер. О Майском я много знаю по семейным преданиям, что Майский (его подлинная фамилия Ляховецкий) на разных этапах жизни, и в эмиграции, и в других местах, с отцом были в тесной дружбе, в хорошей тесной дружбе. Мама очень дружила с женой Горького Е.П.Пешковой, и тоже я не попал к ней, ее поведение на процессе я помню отлично, а вот последующие годы пропустил. Она отважная женщина, которую очень уважал Дзержинский.
Морозов: Как бы Вы сейчас оценили жизненный путь Вашего отца?
Донской: Не боясь громких слов, - как подвижнический. Достаточно сказать, что в среднем за эти 12 лет в каждый день амбулаторного приема в больнице проходило 70 человек, когда часто он бывал единственный врач, кроме него – только помощники: сестры, санитарки, фельдшерицы, акушерки. 70 человек в среднем! Популярность его была необычайная. (Патетически). Зимой, ночью идет обоз. Сзади кричат: “Обоз, стой! Пропусти доктора!” Потому что бешеный конек Карька обгонит по целине, чтобы он мог обоз обойти, и передают, передают, не надо объяснять, как и почему. Он выезжал в 12, в обеденное время, бывало, успевал к раненому, к родам, к телу умирающему, бывало, не успевал. Сам верхом, в коляске, на санках, но никогда на веслах - врачу нельзя.
Морозов: Чтобы Вы пожелали бы современной молодежи?
Донской: Что бы я пожелал… Учиться по-настоящему, для себя, а не для документа. Пожелание для страны не обдумывал заранее, оно у меня мелькнуло озарением – справедливости, понимая под этим все, как кто ее понимает.