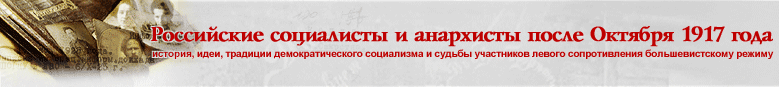
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Два пути: Февраль и Октябрь
| предыдущая | содержание | следующая |
ИСТОРІЯ И ПОЛИТИКА ВЪ «ИСТОРІИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ»
П. Н. МИЛЮКОВА.
1.
Русская революція не завершила еще своего бега. Не закончились еще ея corsi e ricorsi, не оформились результаты. Но и въ хо.де еще незавершенныхъ процессовъ, въ самомъ теченіи того періода, которому только будущее призвано дать имя Э п о х и Р y с с к о й Р е в о л ю ц і и, уже собираются матеріалы и документы, составляются обвинительные акты и защитительныя речи для грядущаго судьи – Исторіи.
На ряду со все возрастающими и со дня на день становящимися все менее удобообозримыми матеріалами мемуарнаго порядка, – уже сейчасъ, въ пылу еще неотшумевшихъ битвъ, делаются попытки якобы объективнаго установленія фактовъ, ихъ группировки и объясненія. Появляются работы пытающіяся дать не только хронику русской резолюціи не только личныя о ней воспоминанія, но и ея и с т о р і ю.
Наиболее значительной изъ такого рода работъ, посвященныхъ февральскому періоду русской революціи, является «Исторія (второй) русской революціи» П. Н. Милюкоіва въ трехъ томахъ-выпускахъ. {97}
Уже больше двадцати летъ, какъ этотъ выдающійся представитель исторической науки, следуя примеру многихъ русскихъ ученыхъ, изъ любви къ родине, долгу гражданина и патріота принесъ тягчайшую для ученаго жертву – занятіе своей профессіей. Если нельзя говорить о полномъ вытесненіи научныхъ интересовъ Милюкова интересами политическими, то нельзя отрицать и того, что его активность сосредоточилась за последнія десятилетія преимущественно на политической борьбе. Только изредка и урывками. въ промежутке между двумя политическими кампаніями, удавалось П. Н. Милюкову выступить съ какой-нибудь лекціей или выпустить книгу, почти всегда носившую почать времени и цели, ради которой авторъ съ ней выступалъ. Обострявшаяся борьба и нужды дня все чшцс заставляли русскаго ученаго сменять медлительпую запись летописца на скоропись публициста и журналиста.
Мы не будемъ расценивать П. Н. Милюісова какъ политика. Но говоря о П. Мнлюкове, какъ авторе «Исторіи русской революціи», нельзя не оговорить все-таки того, что Милюковъ нынешній, радікалъ и республиканецъ 1921-1930 гг., какимъ все его знаютъ, – не тотъ Милюковъ, какимъ многіе его знали въ описываемый имъ періодъ февраль-октябрь 1917 года и, главное, какимъ онъ былъ въ моментъ написанія своей «Исторіи». Больше того: Милюковъ нс оставался равенъ себе и за время, которое ему потребовалось, что-бы написать и выпустить въ светъ свой трудъ. Чтобы въ этомъ убедиться, достаточно сравнить самую «Исторію», написанную между ноябремъ 1917 и августомъ 1918 гг., и Предисловіе къ «Исторіи», датированное 27 декабря 1920 г.
Назвавъ свой трудъ «Исторіей», П. Н. Милюковъ уже въ предислоівіи къ нему оговаривается, что онъ {98} самъ «хорошо знаетъ, что для исторіи революціи въ строгомъ смысле время не скоро настанетъ». Выбирая такое названіе, авторъ «хотелъ лишь сказать, что его цель идетъ дальше личныхъ «Воспоминаній». П. Н. Милюковъ считаетъ «и нескромнымъ, и черезчуръ субъективнымъ» вводить читателя въ «интимную атмосферу событій, доступную только для ихъ непосредственнаго участника». Ему кажется, что время еще не наступило для опубликованія воспоминаній о революціи, ибо – «действующія лица описываемой эпохи еще не сошли со сцены, вызванныя ихъ деятельностью чувства еще далеко не улеглись, ихъ интимные мотивы не сделались достояніемъ гласности».
Авторъ утверждаетъ, что его «Исторія» «принципіально отказывается отъ субъективнаго освещенія». Субъективизму личныхъ воспоминаній авторъ – «историкъ по профессіи», какъ онъ подчеркиваетъ, предпочитаетъ «подлежащіе объективной проверке» факты. Поскольку верны приводимые факты, постольку б е з-с п о р н ы, по его мненію, и вытекающіе изъ нихъ выводы. Авторъ знаетъ, конечно, что и самые факты не все еще собраны съ надлежащей полнотой. Но все же онъ «льститъ себя надеждой», что и при дальнейшемъ накопленіи и изученіи фактовъ «не очень изменятся намечаемые имъ выводы». Ибо, оказывается, – и «фактическое изложеніе не составляетъ главной задачи «Исторіи». Оказывается, что въ «Исторіи» даны по преимуществу – «руководящія линіи, основные штрихи рисунка. Анализъ событій съ точки зренія определеннаго пониманія ихъ былъ той основной целью, которая собственно и побудила автора взяться за составленіе «Исторіи». Изъ разсказа несомненно вытекалъ определенный политическій в ы в о д ъ». {99}
Въ этихъ словахъ к л ю ч ъ ко всей исторіи революціи, написанной Милюковымъ.
Авторъ хорошо сделалъ, указавъ на него въ предисловіи къ своему труду, написанномъ после самого труда. Къ тому же выводу приходитъ и читатель по ознакомленіи съ трудомъ. Конечно, «историка по профессіи» никто не заподозритъ въ томъ, что онъ заведомо «хотелъ подогнать факты къ выводамъ». Но онъ самъ признаетъ, что въ его «группировке фактовъ уже данъ известный комментарій къ событіямъ», что «определенный политическій выводъ» вытекаетъ изъ его «разсказа». Разсказъ же всегда субъективенъ, даже когда онъ не подбираетъ факты, a отбираетъ ихъ, «группируетъ» или анализируетъ «съ точки зренія определеннаго пониманія», – что, по словамъ Милюкова, и составляло основную цель его работы и что превращаетъ ее изъ работы исторической въ работу публицистическую, чтобы не сказать определеннее – партійно-политическую.
Давно уже было замечено, что въ д е л е н і и на періоды – весь смыслъ исторіи, какъ науки, вся философія исторіи, какъ ряда сменяющихся фактовъ и явленій. Въ той разбивке на періоды (періодизаціи), которой подвергаетъ событія февральской революціи Милюковъ, вскрывается съ полной ясностью весь политическій смыслъ его «Исторіи». Въ оглавленіи тру-да Милюкова уже намечены все линіи и тенденціи его «Исторіи».
Первый выпускъ «Исторіи» говоритъ о «Противоречіяхъ революціи». Онъ распадается на три главы, отграниченныя хронологически. Въ первой, «предъисторической», подъ исторически невернымъ заголовкомъ – «Четвертая Государственная Дума низлагаетъ монархію», описываются событія 27 февраля – 2 мар- {100} та. Вторая глава – періодъ между 2 марта и 6 мая – озаглавлена «Буржуазная власть подчиняется целямъ соціализма». Третья глава сводитъ смыслъ следующихъ двухъ месяцевъ революціи, 6 мая – 7 іюля, къ тому, какъ «Соціалисты защищаютъ буржуазную революцію отъ соціалистической». Весь второй выпускъ состоитъ изъ одной главы-вопроса: «Корниловъ или Ленинъ?». Третій и последній выпускъ озаглавленъ: «Агонія власти». Онъ распадается на рядъ очерковъ съ почти кинематографическими подзаголовками: «Демократія» принципіально отвергаетъ коалицію съ «буржуазіей»; «Демократія» идетъ на компромиссъ съ «буржуазіей»; Сила и слабость третьей коалиціи; Последній шансъ последней коалиціи; «Національная политика» или «похабный миръ»; Большевики готовятся къ решительному бою; Ликв.идація сопротивленія большевиковъ подъ Петроградомъ и въ Москве.
Последній выпускъ сопровожденъ авторскимъ послесловіемъ. Въ немъ П. Милюковъ предвидитъ, что его фактическій разсказъ потребуетъ переработки по новымъ источникамъ. Но тутъ же «считаетъ нелишнимъ предупредить, что появившіеся въ печати матеріалы и изследованія по исторіи второй революціи не изменили ни въ чемъ существенномъ его пониманія этой исторіи». Авторъ вновь повторяетъ, что онъ «не хотелъ быть только мемуаристомъ» и потому «добровольно отказывается отъ некоторыхъ преимуществъ мемуарнаго изложенія, чтобы темъ более приблизиться къ выполненію задачи историка». Эту задачу, въ данномъ случае, въ отличіе отъ всей своей прошлой деятельности историка, Милюковъ понимаетъ своеобразно. Онъ проводитъ резкое различіе между б y д y щ и м ъ историкомъ, «которому предстоитъ выяснить неизбежный ха- {101} рактеръ последовавшихъ событій, выведя его изъ трудностей войны и хозяйственной разрухи, изъ неподготовленности населенія «къ практике народовластія, изъ запоздалости національныхъ и соціальныхъ реформъ, изъ малокультурности и необразованности и т.п.», и между историкомъ-современнмикомъ, «ближайшимъ участникомъ событій, развертывавшихся въ центре». Последній «естественно будетъ смотреть на событія и оценивать ихъ съ точки зренія менее фаталистической... Ему трудно будетъ отказаться отъ убежденія, что все могло бы пойти иначе, если бы степень самосоз-нательности и степень волевого напряженія y руководителей были иныя» (В. I, 56). Авторъ не хочетъ быть «философомъ исторіи русской революціи», обязаннымъ проникать во «все глубоікіе корни и нити, связывающіе вторую русскую революцію со всемъ ходомъ и результатомъ историческаго процесса». Какъ онъ подчеркиваетъ, его задача «гораздо проще. Мы ставимъ себе целью – возможно точное и подробное фактическое описаніе совершившагося на нашихъ глазахъ».
Я не думаю, чтобы такимъ образомъ поставленная цель именно въ данныхъ условіяхъ, когда фактическое описаніе совершившагося на нашихъ глазахъ исходитъ отъ лица, сыгравшаго одну изъ главныхъ ролей вь описываемыхъ событіяхъ, – была «проста». Во всякомъ случае историкъ по профессіи вынужденъ былъ придать д в a смысла исторіи, вынужденъ былъ провести различіе между историкомъ будущимъ и современнымъ, прежде, чемъ назвать свое описаніе «Исторіей». Ближайшее участіе политика Милюкова въ событіяхъ февральской революціи отняло возможность y Милюкова-историка быть нелицепріятнымъ летописцемъ и судьей описываемыхъ имъ событій. Оценка «ближайшаго уча- {102} стника» событій очень редко совпадаетъ съ приговоромъ не только «будущихъ историковъ», но и историковъ вообще. Врядъ-ли совпадаетъ эта оценка и въ данномъ случае. Ниже мы увидимъ, на конкретныхъ примерах.., насколько автору было «трудно отказаться отъ убежденія, что все могло бы пойти иначе, если бы»... если бы рсволюція произошла не въ техъ условіяхъ, въ какихъ она была дана историчесхи и произошла фактически, a – «по Милюкову» т.е., если бы событія складывались не такъ «фаталистически», и действовавшіе на авансцене псрсонажи следовали бы словамъ и указаніямъ автора «Исторіи».
2.
Когда началась революція? Кто «сделалъ» ее? Что превратило «бунтъ» въ революцію? Какъ пало самодержавіе въ Россіи?
«Группировка фактовъ», отвечающихъ на эти п е р-в ы е и элементарные для исторіи революціи вопросы, убедитсльнее всего показываетъ, какъ рискованно для с т о р о н ы в ъ д е л е, даже когда онъ историхъ по профсссіи, выступать въ роли судьи, темъ более – историческаго судьи.
Февральскую революцію П. Н. Милюковъ датируетъ шестнадцатымъ годомъ... Это не описка. Это – «определенное пониманіе» революціи, своеобразное толкованіе историкомъ Милюковымъ событій, въ которыхъ участвовалъ Милюковъ политикъ. 1-го ноября 1916 года Милюковъ, въ числе другихъ ораторовъ, обличавшихъ старый режимъ – Маклакова, Керенскаго, Шульгина, Пуришкевича, произнесъ съ трибуны 4-ой Государственной Думы речь, въ которой каждый изъ об- {103} личительныхъ пунктовъ заканчивался вопросительнымъ рефреномъ: «Глупость или измена?». «И хотя ораторъ, – пишетъ теперь въ своей «Исторіи» Милюковъ, – склонялся скорее къ первой альтернативе, аудиторія своими одобреніями поддерживала вторую». Речи ораторовъ этого дня были запрещены для печати, что устроило имъ самую широкую рекламу. Эти речи стали переписываться и размножаться по стране, въ тылу и на фронте, въ громадномъ количестве экземпляровъ. Милюковъ правъ, когда говоритъ, что «этотъ отзвукъ явился красноречивымъ показателемъ настроенія, охватившаго всю страну». Но онъ по меньшей мере не точенъ, когда прибавляетъ: «теперь y этого. настроенія былъ лозунгъ», не определяя ближе содержанія этого лозунга. И онъ совершенно неправъ – и фактически и «философско-исторически», – когда приписываетъ не себе, a «общественному мненію» Россіи, что оно «единодушно признало 1-ое ноября 1916 г. началомъ русской революціи».
Надо ли опровергать это утвержденіе? Надо ли спрашивать, изъ какихъ источниковъ почерпнулъ Милюковъ уверенность въ единодушномъ признаніи россійскимъ общественнымъ мненіи ноябрьской даты февральской революціи?... Надо ли указывать фактическую невязку: между моментомъ произнесенія речи и «настроеніемъ, охватившимъ страну» подъ влияніемъ этой речи, все-таки протекъ известный періодъ и, потому, уже во всякомъ случае не 1 ноября датируется русская революція. Надо ли доказывать, что между «парламентскимъ словомъ» и возстаніемъ дистанція огромнаго размера, во всякомъ случае – не меньшая, чемъ между бунтомъ и революціей, которой могъ не заметить Людовикъ ХVІ изъ своего тюльерій- {104} скаго окошка, но которая легко уловима всякимъ современнымъ политическимъ окомъ, темъ более историческимъ.
Нетъ нужды отвечать на эти вопросы, потому что y самого автора «Исторіи русской революціи» можно найти описаніе фактовъ, противоречащихъ только что приведенному «определенному пониманію» имъ русской революціи.
«... 23 февраля появились первые признаки народныхъ волненій. 24-го мирные митинги уступили место первымъ вооруженнымъ столкновеніямъ съ полиціей, сопровождавшимся и первыми жертвами. 25-го работа фабрикъ и занятія въ учебныхъ заведеніяхъ прекратились: весь Петроградъ вышелъ на улицу. У городской думы произошло крупное столкновеніе народа съ полиціей, a на Знаменской площади, при такомъ же столкновеніи, казаки приняли сторону народа, бросились на конную полицію и обратили ее въ бегство. Толпа приветствовала казаковъ; происходили трогательныя сцены братанія. 26 февраля... въ громадномъ количестве толпа ходила по улицамъ, собиралась на митинги, вызвала столкновенія, при которыхъ прави-тельствомъ были пущены въ ходъ пулеметы... 27-го утромъ уже начиналось форменное возстаніе въ казармахъ Волынскаго и Литовскаго полковъ. Движеніе началось среди солдатъ и застало офицеровъ совершенно неподготовленными: одиночныя попытки ихъ воспротивиться привели къ кровавымъ жертвамъ. Одновременно съ этимъ смешанныя толпы (солдатъ и штатскихъ) отправились къ арсеналу, заняли его и захватили оружіе, бросились къ тюрьмамъ освобождать арестованныхъ – не только политическихъ, но и уголовныхъ, подожгли Литовскій замокъ, окруж- {105} ной судъ, охранное отделеніе на Тверской улице и т.д.».
Этотъ сухой, почти протокольный перечень событій, разыгравшихся всего въ одномъ, петроградскомъ углу Россіи, – типическая картина того, какъ происходятъ революціи во всехъ странахъ и y всехъ народовъ. И революція имеетъ свой штампъ. Былъ онъ и y февральской революціи, которой, конечно, никто не сделалъ, которая сделалась сама, вспыхнувъ вь столице, перекинувшись мигомъ вглубь страны и на фронтъ и испепеливъ безъ остатка трсхвековос самодержавіе. И когда Милюковъ озаглавлкваетъ первую гллву своей «Исторіи» – «Четвертая Государственная Дума низлагастъ монархію», когда онъ утверждаетъ, что лишь вмешательство Государственной Думы дало уличному и военному «безформенному и безпредметному(!) движенію центръ», «дало ему знамя и лозунгъ и темъ самымъ превратило возстаніе въ революцію» (В. 1, 39), когда онъ повторяетъ слова, сказанныя имъ въ августе 17-го года на московскомъ государственномъ совещаніи: «революція своей победой обязана Государственной Думе, давшей санкцію перевороту» (В. П 143), когда онъ теперь удивляется, какъ удивлялся и въ 17 году, – что избранная въ 1912 году Дума была упразднена въ іюне 17-го года, тогда какъ на самомъ деле удивляться надо было обратному: какъ могла Дума просуществовать целыхъ четыре месяца после революціи, – мы не можемъ признать правильными ни его представленіе о революціи вообще, ни его «группировку» фактовъ, касающихся спеціально начала революціи 17 года.
Представленіе Милюкова о революціи страдаетъ тою же раціонализаціей, – внесеніемъ въ ис- {106} торическую стихію политическаго смысла и разума по образу и подобію того, что кажется осмысленнымъ Милюкову-историку и что казалось таковымъ еще въ въ 17 году Милюкову-политику. Отсюда и его «догадки» о томъ, что броженіе среди петроградскихъ рабочихъ создано въ значительной мере объединенными усиліями германскаго генеральнаго штаба и провокаторовъ русскаго департамента полиціи; отсюда и то преувеличенное значеніе, придаваемое Милюковымъ-историкомъ событіямъ и учреждешямъ, въ которыхъ руководящую и видную роль игралъ Милюковъ-политикъ: въ частности, – его собственнымъ словамъ и речамъ 1 ноября, 17 декабря, 14 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, – въ Государственной Думе, въ беседе съ представителями совета рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, при соприкосновеніи съ манифестирующей толпой, при свиданіи съ вел. кн. Михаиломъ Александровичемъ, въ заседаніяхъ Временнаго Правительства и т.д.. и т.п.
П. Милюковъ, конечно, лучше другихъ знаетъ, чтс вышедшія изъ столыпинскаго переворота Государственныя Думы были безсильнымъ «игралищемъ власти», не пользовавшимся почти никакимъ авторитетомъ въ широкихъ кругахъ общественнаго мненія и темъ более въ народныхъ низахъ. Это не относится къ отдельнымъ членамъ Думы, которые пользовались чрезвычайной популярностью и до революціи, Но и они были популярны не потому, что состояли членами третьеіюньской Думы, a несмотря на то, или, точнее потому, что состояли въ крайней оппозиціи къ думскому большинству. Роль Думы еще можно считать сравнительно значительной въ предшествовавшіе революціи месяцы. Въ февральскіе же и последующіе {107} дни роль ея не могла не быть ничтожной. Дума, какъ учрежденіе, всегда была противъ революціи, не хотела ея. боялась и ненавидела ее. Ее заменилъ 12-членный Временный Комитетъ, который не столько руководилъ событіями, сколько руководился ими.
Авторъ «Исторіи» самъ оггмечаетъ, что съ большимъ трудомъ, въ частности трудами лидера конституціонно-демократической фракціи въ Думе Милюкова, созданное болыиинство Думы, – такъ назыв. «прогрессивный блокъ», – «до самого конца» боролось противъ революціи. «Но, – прибавляетъ онъ, – видя, что насильственный путь будетъ все равно избранъ и помимо Государственной Думы, оно стало готовиться къ тому, чтобы ввести въ спокойное русло переворотъ. который оно предпочитало получить не снизу, a сверху».
Мы позволяемъ себе усомниться въ томъ, чтобы думское большинство было столь макіавеллистически прозорливо въ то время, къ которому относятся приведенныя слова Милюкова. Но если большинство Думы и на самомъ деле видело то, чего не видели другіе, какъ «левые» представители соціалистическихъ партій (См. первый очеркъ), такъ и правые члены Государственной Думы (Ср. «Крушеніе Имперіи» В. М. Родзянко въ «Архиве русской революціи» т. 17), если оно действительно чувствовало, что революція уже надвинулась вплотную, – тогда темъ более неосмотрительно было съ его стороны успокоиться на подготовленіи къ тому, чтобы ввести переворотъ въ спокойное русло после того, какъ онъ произойдетъ. «Предпочитая» переворотъ сверху, большинство Думы пропустило все времена и сроки для него и фактически получило переворотъ снизу, какъ обычно, – стихійный, т.е., введе- {108} нію въ спокойное русло вообще не поддающійся. Это – не «левое» пониманіе хода революціи. Это – объективное ея описаніе. Чтобы въ этомъ убедиться, достаточно знать мненіе такого умереннаго политика, какъ А. И. Гучкова. Не въ воспоминаніяхъ и не, въ историческихъ изследованіяхъ, a въ показаніяхъ передъ верховной следственной комиссіей, образованной Временнымъ Правительствомъ для разследованія действій министровъ и другихъ агентовъ царской власти, и не въ первые, весенніе дни революціи, a на ея закате, 2 августа, когда Гучковъ давно уже покинулъ постъ революціоннаго министра и, затаивъ раздраженіе противъ революціи, снова оічутился на привычномъ для него правомъ фланге русской общественности, онъ показывалъ: «Вина, если говорить объ исторической вине русскаго общества, заключается именно въ томъ. что русское общество, въ лице своихъ руководящихъ круговъ, недостаточно сознавало необходимость этого переворота и не взяло его въ свои руки, предоставивъ слепымъ силамъ, не движимымъ определеннымъ планомъ, выполнить эту болезненную операцію»...
Уже въ предыдущемъ очерке нами отмечалось, что однимъ изъ многихъ, осложнявшихъ ходъ русской революціи факторовъ было то, что революцію возглавили, вулканическое изверженіе пытались канализировать какъ разъ те, кто своимъ прошлымъ отношеніемъ къ революціи меньше всего могли внушить доверія главному действующему агенту революціи – народу, массамъ, низамъ. Отсюда то «двоевластіе», которое возникаетъ съ перваго же часа революціи, та безмерная подозрительность, которую проявляютъ представители возставшихъ и проведшихъ революцію народныхъ низовъ по отношенію къ возглавившкмъ не свое дело {109} «верхамъ»: Временному Комитету Государственной Думьг, a потомъ и къ болыыинству членовъ Временнаго Правительства. Отсюда и «претензіи» представлять «демократическіе классы рабочихъ, солдатъ, a затемъ и крестьянъ», которыя съ перваго же дня революціи начали заявлять непредставленныя или едва-едва представленныя въ Государственной Думе левыя партіи и группы, тутъ же сорганизававшіяся въ петроградскій советъ рабочихъ и солдатскихъ – a после и крестьянскихъ – депутатовъ. Отсюда же и тотъ «испугь». который не покидалъ большинства членовъ Временнаго Комитета и перваго Временнаго Правительства. Только испугомъ и умерялось, по классичсской формуле Гладстона, ихъ постоянное недоверіе къ основному фактору рсволюціи — къ народу. Въ «Исторіи» приводится не одинъ примеръ того, какъ «напуганный возраставшей волной возбужденія» Временный Комктетъ Государственной Думы, a потомъ и Временное Правительство, – «молчаливо отрекались» отъ своихъ мненій.
Что и говорить, двоевластіе всегда, и особенно въ острый періодъ революціи – плохо. Подозритсльность и претензіи соціалистическихъ партій сплошь да рядомъ бывали фактичсски необоснованы, a испугъ членовъ Думы и правительства, какъ показали последующія событія, более чемъ основательны. Но и с т о р и ч е-с к и и то, и другое, и третье, очевидно, было одинаково обусловлено и въ этомъ смысле неизбежно. П. Н. Милюковъ не хочетъ быть «философомъ исторіи русской революціи». Темъ не менее, пересказывая факты и событія русской революціи, онъ следуетъ определенной философіи исторіи. Согласно нея почти все злое и темное въ революціи – отъ соціалистовъ и техъ, кого со- {110} ціалисты «соблазнили»: въ первую очередь – князя Львова, еретика к.-д. партіи Некрасова и Терещенко. Все же или почти все светлое и благое – отъ «буржуазіи» (въ условномъ смысле) или отъ руководимой Милюковымъ несоціалистической демократіи. Мерою приближенія къ словамъ и действіямъ, предвиденіямъ и предостереженіямъ, исходившимъ отъ лидера к.-д. партіи, измеряется въ «Исторіи» праведность и греховность всехъ личныхъ факторовъ въ революціи, Если было что положительное и творческое въ революціи, все, почти безъ исключенія, было подготовлено п е р в ы м ъ составомъ рсволюціоннаго правительства, въ которомъ участвовалъ П. Н. Милюко.въ. Все последуюшіе отклонились отъ добра и впали въ зло. Если Совещание по выработке закона о выборахъ въ Учредительное Собраніе, сделало свое дело п о с л е того, какь сменился первый составъ правительства, Милюковъ торопится сделать не совсемъ точную отметку: «во всякомъ случае основныя положенія избирательного закона были уже выработаны раньше Юридической комиссіей: это те самыя положенія, которыя были доложены Ф. Ф. Кокошкинымъ въ апрельскомъ съезде партіи народной свободы и приняты партіей».
Интересная работа П. Н. Милюкова не есть ни философія, ни исторія русской революціи. Это – исторія и философія участія въ революціи к.-д. партіи. Это – феноменологическое изображеніе русской револгоціи, въ которомъ «міровой разумъ исторіи» раскрывается въ речахъ и действіяхъ сопричастныхъ къ революціи членовъ – по преимуществу лидера – партіи к.-д. Этимъ объясняется, въ частности, и то, что «Исторія» ограничивается исключительно политической стороной революціи и описываетъ факты, происходившіе, главнымъ образомъ, въ Петрограде. {111}
3.
Мы не пишемъ здесь своей исторіи русской революціи въ «строгомъ» или иномъ смысле. Мы не, станемъ, поэтому, взаменъ искусственной и, какъ мы утверждаемъ, партійно-политической конструкціи и схемы Милюкова, предлагать свою, вероятно, тоже не чуждую политической окраски. Мы ограничимся примерными иллюстраціями непріемлемаго въ «Исторіи», предопределеннаго неправильнымъ подходомъ и преходящими, неисторическими заданіями автора. Приходится ограничиться указаніями на противоречія въ изложеніи и аргументаціи, отводящей главенствующую роль въ ходе и исходе революціи субъективному фактору.
П. Н. Милюковъ считаетъ, что вся намеченная первымъ составомъ Временнаго Правительства программа была или осуществлена или подготовлена къ осуществленію. Но онъ не могъ не упомянуть о «техъ трудностяхъ, которыя, быстро возрастая, парализовали уже къ концу второго месяца работу перваго состава Временнаго Правительства». Каковы эти трудности? Одна – подлинная, объективнаго порядка, – исчезновеніе власти въ провинціи: старая власть была упразднена, новая не успела создаться, получить авторитетъ моральный и фактическій. Но другая «трудность», на которую указываетъ Милюковъ, – мнимая: поскольку она не перефразъ первой, она – простой гротескъ.
Нельзя думать, что «міровоззреніе» руководителя внутренней политики кн. Львова, говорившаго въ частныхъ и публичныхъ речахъ, что местные вопросы должны решаться не изъ центра, a самимъ населеніемъ, – «мы можемъ творить новую жизнь народа не для народа, a вместе съ нимъ»; «будущее принадлежитъ {112} народу, выявившему въ историчесхіе дни свой геній»; «свобода, пусть отчаятся другіе, я никогда въ тебе не усомнюсь» и т.д., – это совпаденіе «интернаціоналистической концепціи кн. Львова съ идеалистическими славянофильскими чаяніями» и есть подлинная причина «систематическаго бездействія» ведомства внутреннихъ делъ и «самоограниченія центральной власти». Во всякомъ случае, неверно утвержденіе, что власть была в ы п y щ е н a кн. Львовымъ и захвачена соціалистическими партіями. Выпустить можно лишь то, чемъ обладаешь. Властью же, реальной, дисциплинированной, Временное Правительство, особенно перваго. состава, не обладало, не успело ни организовать ее, ни вступить въ обладаніе ею.
Въ сознаніи отсутствія реальной власти, въ твердомъ ощущеніи, что все государственное управленіе держится на слове и опирается на моральный, только моральный авторитетъ, была и личная трагедія вождей февральской революціи, и объективная для нихъ необходимость не столько командовать и приказывать революціи, сколько ee «уговаривать», взывать, иногда заведомо переоценивая роль слова и переубежденія, къ чувству и разуму, a не вооруженной силе, которую все равно не откуда было взять. Не изъ добродетели только, но и изъ нужды заявляло Временное Правительство въ воззваніи къ гражданамъ отъ 26 апр., составленномъ единомышленникомъ П. Милюкова покойнымъ проф. Кокошкинымъ, – что оно «ищетъ опоры не въ физической, a моральной силе» и, «при отказе отъ старыхъ насильственныхъ пріемовъ управленія и отъ внешнихъ искусственныхъ средствъ», кладетъ въ основу своего управленія «не насиліе и принужденіе, a добровольное повиновеніе свободныхъ гражданъ созданной ими самими власти». {113}
Проявлять «действительную полноту власти» правительство сплошь и рядомъ не столько не хотело, сколько не могло. Милюковъ самъ напоминаетъ, какъ, напримеръ, приказъ главнокомандующаго петроградскимъ округомъ ген. Половцева, отданный воинскимъ частямъ въ іюльскіе дни, «приступить немедленно къ возстановленію порядка», остался «мертвой буквой».
Въ этомъ сознаніи безсилія власти бьтлъ секретъ и крайней «демократизаціи» арміи, и крайней внешней политики, и соціальнаго радикализма, даже Терещенко и Коновалова, и «очень чувствительныхъ воззваній» кн. Львова. Правительству «приходилось плыть по теченію»; часто потому, что другихъ средствъ передвиженія и продвиженія – a ниже мы увидимъ, что факта продвиженія и усиленія реальной власти правительства не отрицаетъ и Милюковъ – y него не было. Это и раньше понимали даже более правые, нежели П. Милюковъ, политики. За Милюковымъ въ правительстве шло лишь небольшое меньшинство. Даже правые В. Львовъ и Годневъ, a не только «вечно колебавшійся» кн. Львовъ, примкнули къ «руководящей группе» въ правительстве, къ «тріумвирату» – Керенскій, Некрасовъ, Терещенко. И когда Милюковъ предложилъ кн. Львову въ двадцатыхъ числахъ апреля «последовательно проводить программу твердой власти, пожертвовать А. Ф. Керенскимъ и быть готовымъ на активное противодействіе захватамъ власти со стороны совета» (В. 1, 108), – это предложеніе было настолько ирреально, что даже единомышленники Милюкова въ правительстве не рискнули его поддержать. Даже Гучковъ, въ качестве военнаго и морского министра, не менее, конечно, Милюкова готовый къ «активному противодействію захватамъ власти», отдавалъ себе ясный отчетъ въ томъ, что нетъ {114} возможности изменить «условія, въ которыя поставлена правительственная власть въ стране». Говорить теперь, что комиссія генерала Поливанова санкціонировала проектъ совета солдатскихъ депутатовъ о вольностяхъ солдата «уже темъ, что приняла ихъ къ разсмотренію», значитъ по просту забыть ту обстановку и психологическую атмосферу, въ которой реально протекали событія въ марте 17 года.
Съ другой стороны, то описаніе хаоса и случайности въ решеніяхъ и деятельности петроградскаго совета, которое Милюковъ приводитъ изъ мемуаровъ одного изъ видныхъ деятелей Совета, впоследствіи верховнаго комиссара на фронте, Станкевича, менее всего свидетельствуетъ о томъ, что власть, упущенная ведомствомъ внутреннихъ делъ, оказалась въ рукахъ соціалистическихъ партій. Нетъ, реальной власти и y нихъ не было. Беда была въ томъ, что въ то время въ Россіи вообще власти не было. Ею никто не обладалъ. Формально Советъ того времени не столько претендовалъ на государственную власть, сколько ревновалъ правительство и соперничалъ съ нимъ въ обладаніи моральнымъ авторитетомъ. Советъ относился недоверчиво къ личному составу правительства. Это недоверіе питалось біографіей большинства членовъ правительства, бывшихъ врагами революціи и неожиданно очутившихся на ея гребне. Оно укреплялось стремленіями съ ихъ стороны сохранить или отсрочить упраздненіе монархической формы правленія въ Россіи, попыткой сохранить прежнія, «старорежимныя» цели войны (Константинополь), оставить незыблемымъ централистически-унитарное строеніе россійской имперіи, замедлить преобразованіе ея соціальнаго строя.
Въ этомъ отношеніи П. Милюковъ самъ приводитъ {115} рядъ чрезвычайно показательныхъ фактовъ, напримеръ, тотъ, что уже въ марте, т.е., еще до истеченія медоваго месяца революціи, авторъ «Исторіи» въ роли министра иностранныхъ делъ революціоннаго правительства, «уступая большинству министровъ, согласился на опублиікованіе заявленія о целяхъ войны, но не въ виде дипломатической ноты, a въ виде воззванія къ гражданамъ, и притомъ въ т a к и х ъ выраженіяхъ, которыя не исключали возможности его прежняго пониманія задачъ внешней политики и не требовали отъ него никакихъ переменъ въ курсе этой политики». То, въ чемъ теперь, «исторически» и ретроспективно, сознается авторъ маскарада, было, конеч-но, тотчасъ же замечено его политическими противниками, нашедшими выраженія документа «двусмысленными и уклончивыми» и грозившими начать кампанію противъ Временнаго Правительства...
Еще въ апреле одинъ изъ лидеровъ советской политики, Данъ, подчеркивалъ: «Мы хотимъ, чтобы было сказано ясно и определенно, что въ обычномъ нормальномъ теченіи своемъ это клевета будто советъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ хочетъ принять участіе въ осуществленіи государственной власти. Мы хотимъ, чтобы было сказано, что власть это – Временное Правительство». Еще 29 апреля на прямое приглашеніе Временнаго Правительства принять участіе въ «ответственной государственноій работе», въ качестве «активной творческой силы», Исполнительный Комитетъ петроградскаго совета ответилъ отказомъ. Здесь сказалось опасеніе пріобщиться къ скверне буржуазной государственности. И только въ ходе революціи, въ частности, въ процессе борьбы противъ приведеннаго выше воз- {116} званія и его автора – министра иностранныхъ делъ, соперничество Совета съ правительствомъ и «контроль» за нимъ приняли форму борьбы за реальную власть. Какъ разъ въ те дни Советъ обратился къ петроградскому гарнизону со своимъ прискорбнымъ, вскрывшимъ существованіе второго держателя власти, воззваніемъ: – «Только Исполнительному Комитету принадлежитъ право располагать вами (товарищами солдатами). Каждое распоряженіе о вызове воинской части на улицу (кроме обычныхъ нарядовъ) должно быть отдано на бланке Исполнительнаго Комитета, закреплено его печатью, подписано и т.д.».
Много, слишкомъ много было «подводныхъ камней», о которые суждено было разбиться русской революціи. Много, слишкомъ много было совершено русскими политическими партіями, въ томъ числе и соціалистическими, ошибокъ и преступленій. Но «похоти» къ власти среди этихъ греховъ и винъ не было. Избыткомъ воли къ власти россійская демократія не страдала. Скорее, наоборотъ, она страдала отъ недостатка такой воли. И въ лебединой песне русской объединенной демократіи, въ деклараціи, оглашенной 14 августа на московскомъ государственномъ совещаніи, точно передано характерное для нея настроеніе: «Революціонная демократія не стремилась къ власти, не желала монополіи для себя... Она была готова поддержать всякую власть, способную охранять интересы страны и революціи... Она стремилась организовать и дисциплинировать народныя массы для государственнаго творчества, направлять стихійныя стремленія народа-гиганта, сбрасывающаго вековыя цепи, въ русло правомерности, работать надъ возстановленіемъ боеспособности арміи... интересы целаго ставить выше интересовъ от- {117} дельныхъ класовъ» и т.д. Но она натолкнулась на «безчисленныя противоречія», и въ первую очередь – на «отсутствіе навыковъ къ организоіванной деятельности»... И даже п о с л е одержанной победы надъ возставшимъ Корниловымъ Церетели предостерегалъ петроградскій Советъ: «Не переоценивайте своихъ силъ. Ведь если заговоръ Корнилова не удался, то исключительно потому, что не былъ активно поддержанъ всей буржуазіей... Было бы величайшимъ несчастіемъ, если-бы власть попала въ руки одного лишь класса»...
Можно и должно скорбеть о ходе и исходе русской революціи. Но нельзя этому чувству законной скорби подчинять фактическое изображеніе революціи, особенно когда оно претендуетъ быть исторіей. Только въ идее разумъ всегда умудряется найти благополучный выходъ изъ положенія, Въ жизни часты положенія, для которыхъ благополучнаго исхода не дано. Такъ, увы, случилось и съ русской революціей, которой предстояло или заключить сепаратный миръ и спастись или продолжать войну и погибнуть. Она предпочла погубить себя, но сохранить свою душу, не поддаться безчестію. Можетъ быть, это было неразсчетливо, сентиментально, характерно для «славянской души». Но такъ было. Объективная безысходность положенія создала трагедію личную и коллективную, для отдельнаго Львова и Керенскаго и для русскаго народа въ целомъ. Но въ начале была безысходность положенія, a потомъ уже явились – субъективныя ошибки, грехи и трагедіи.
4.
Милюковъ правъ въ своихъ обличеніяхъ революціонной демократіи въ утопизме, максимализме, рас- {118} терянности и двойствснности въ словахъ и делахъ. Но те же обвиненія съ неменьшимъ основаніемъ могли бы быть предъявлены и къ нереволюціонной демократіи, маіксималистически отстаивавшей Константинополь для Poссии, когда были потеряны Варшава и Рига, утопически мечтавшей ввести въ спокойное русло революціонную стихію и растерявшейся настолько, что даже своего собственнаго превращенія изъ Савла въ Павла революціи она почти не заметила... Это возраженіе можетъ быть обращено къ Милюкову – участнику революціи. Къ Милюкову – историку революціи упрекъ, конечно, совсемъ другого порядка – переоценка имъ злой воли революціонной демократіи и недооценка имъ реально данной въ 1917 году русской действительности, съ ея исторіей и географіей, соціальными связями и политической культурой. Неправильное соотношеніе въ той и другой оценке делало ирреальными и утопическими наиболее, казалось бы, реалистическіе въ другой обстановке планы.
Насколько подвижна и изменчива въ революціи психологія даже весьма квалифицированныхъ коллективовъ, насколько отклоняется она отъ обычныхъ нормъ, можно судить хотя бы по незначительному эпизоду, разсказанному Милюковымъ, изъ жизни руководимой имъ партіи. 23 іюля съездъ партіи к.-д. въ Moскве после ряда «блестящихъ речей» одобрилъ отказъ к.-д. войти въ коалиціонный кабинетъ Керенскаго. A черезъ 24 часа y того же съезда, спешно перенесеннаго изъ Москвы въ Петроградъ, подъ вліяніемъ другой, не менее блестящей речи, «сложилось прямо противоположное настроеніе»...
Эта речь П. Милюкова исключительно интересна и въ другомъ отношеніи. {119}
Тогда, 24 іюля 17 года, Милюковъ-политикъ признавалъ: «Въ ряде выступленій самыхъ вліятельныхъ вождей соціалистическихъ теченій – такихъ, какъ Керенскій, Церетели, Черновъ, Скобелевъ и др. – можетъ считаться установленнымъ, что революція не считается соціалистичеокой, что организованная часть демократіи составляетъ лишь поверхностный слой на океане народныхъ массъ... что государство должно остановить разрушеніе промышленности стихійнымъ ростомъ рабочихъ требованій. Остается словесный споръ о томъ, следуетъ ли «сохранять завоеванія революціи» или «продолжать и утлублять ее». – И даже для этого словеснаго спора Милюковъ іюля 17 года находилъ справедливое примиреніе. «Безспорно, революція продолжается въ смысле осуществленія техъ задачъ, которыя она поставила, но революція кончена въ томъ смысле, что законченъ процессъ кроваваго разрыва съ прошлымъ». Съездъ внялъ доводамъ своего лидера, и – «въ конце концовъ, убедился, что не было другого выхода, кроме попытки усилить власть изнутри, ибо путь насильственный, намеки на который уже слышались на съезде, привелъ бы лишь къ гражданской войне».
Приходится констатировать, что y политика Милюкова въ іюле 17 года чувство действительности было сильнее развито и правильнее выражено, чемъ y Милюкова-историка 18 г. Тогда онъ непосредственно о щ у щ a л ъ безвыходность положенія. Конструируя же свою «Исторію», онъ былъ во власти уже совсемъ другихъ чувствъ. Ощущеніе объективной безвыходности сменилось чувствомъ раздраженія противъ субъективныхъ виновниковъ срыва революціи. И его «Исторія» оказалась не только, употребляя слова Милюкова по {120} другому адресу сказанныя, матеріаломъ лица, «ведущаго собственную защиту передъ потомствомъ», но и обвинительнымъ актомъ, составленнымъ подъ маской исторіи, противъ политическихъ противниіковъ. Направленный противъ всей левой «революціонной демократіи» и заостренный спеціально противъ Керенскаго, этотъ обвинительный актъ, какъ и всякій другой, не только одностороненъ и несправедливъ, но и противоречивъ.
Изъ многихъ противоречій мы остановимся для иллюстраціи только въ одномъ, – на оценке Милюковымъ характера правительственной власти за время революціи.
Параллельно съ обвиненіемъ соціалистическихъ партій въ захвате власти, правительства всехъ составовъ обвиняются Милюковымъ въ бездействіи власти. Обвиненіе поддерживается по обоимъ пунктамъ («захватъ» и «бездействіе власти») по отношенію къ обо-имъ подсудимымъ (соціалисты и правительство) даже и тогда, когда, по мненію обвинителя, захватъ уже произошелъ, a оба обвиняемыхъ слились почти воедино, – правительство почти всецело подпало подъ монопольное вліяніе соціалистовъ. Милюковъ различаетъ три фазиса бездействія власти, пройденные революціонными правительствами: бездействіе безсознательное и наивное (кн. Львовъ); бездействіе, основанное на убежденіи (политика Церетели) и бездействіе, прикрывающееся фразой (Керенскій). Но факты, которые приводитъ самъ же Милюковъ, резко про-тиворечатъ этой картине сплошного и огульнаго бездействія революціонной власти.
Поскольку и Милюковъ различаетъ степени и тенденціи, и онъ вынужденъ признать фактъ постепеннаго {121} усиленія власти революціоннаго правительства, прогрессивно возраставшаго вплоть до новаго распыленія... после Корниловскаго возстанія Онъ долженъ признать, что событія 21–22 апреля – отставка Милюкова-министра иностранныхъ делъ – явились поворотнымъ пунктомъ для «пріятія войны» и «пріятія власти» соціалистами, руководившими политикой Советовъ. «Юные энтузіасты зачастую тутъ впервые поняли, пишетъ Милюковъ, что действительность не поддается передъ ихъ волевыми усиліями, что препятствія для осуществленія ихъ безплотныхъ идеаловъ вовсе не проистекаютъ изъ недобросовестности и изъ злой воли «буржуазной» власти, a изъ реальныхъ условій этой самой действительности». Милюковъ разсказываетъ, какъ передъ тысячной толпой делегатовъ 1-го съезда Советовъ выступали министры соціалисты и «вместо демагогическихъ призывовъ старались целымъ рядомъ фактическихъ данныхъ охладить пылъ неосведомленной «революціонной демократіи» и свести ее съ заоблачныхъ высотъ соціалистической теоріи въ міръ трезвой действительности... Церетели – и въ особенности Черновъ – настойчиво повторяли теперь сами то, въ чемъ тщетно убеждалъ ихъ раньше П. Н. Милюковъ: именно, что нельзя «ультиматумами» заставить союзныя правительства принять тезисы Циммервальда и Кинталя... Церетели долженъ былъ говорить о необходимости иметь боеспособную армію и о томъ, что, по военнымъ соображеніямъ, этой арміи, быть мсжетъ, придется въ моментъ, ему неизвестный и составляющій военную тайну, перейти въ наступленіе. Керенскій выступилъ съ обличеніями противъ братанія на фронте... Скобелевъ и Черновъ указывали на невозможность для государства взять на свои плечи организацію производ- {122} ства. Онъ доказывалъ также нелепость большевистскаго решенія національныхъ вопросовъ путемъ возбужденія сепаратизмовъ. И даже – онъ признавалъ невозможнымъ решить аграрный вопросъ путемъ организованнаго захвата земель... Еще более решительнымъ тономъ говорили министры труда и продовольствія...» (В. 1, 206).
Правительство х о т е л о быть сильнымъ, – вынужденъ признать Милюковъ, тутъ же прибавляющій, впрочемъ, что глава Правительства, Керенскій, хотелъ сильнымъ лишь к a з a т ь с я (В. II, 127). «И въ самомъ деле, вторая коалиція въ первыя недели своего существованія проявила уменіе и готовность исправить многія ошибки первой коалиціи, – отмечаетъ авторъ, забывая лишь подчеркнуть, что всего неделями исчерпывалось и самое существованіе каждаго изъ правительствъ февральской революціи. Уже съ начала іюля власть правительства стала крепнуть въ національныхъ и внутреннихъ вопросахъ. «Изъ создавшагося конфликта съ Финляндіей Временное Правительство (новаго состава) нашло вполне конституціонный выходъ. Въ украинскомъ вопросе оно вышло изъ затрудненій еще более удачно, чемъ въ вопросе финляндскомъ»... «То обстоятельство, что правительство смогло провести решеніе о созыве Государственнаго Совещанія въ Москве, a Советы стерпели его, показывало, действительно, какъ глубоко изменилось соотношеніе силъ после вооруженнаго возстанія 3-5 іюля и прорыва, въ ближайшіе дни, русскаго фронта (въ Тарнополе)». Можно прибавить, что изъ справки, опубликованной ставкой Верховнаго Главнокомандованія на 19 сентября 17 года видно, что переброока немецкихъ войскъ съ русскаго на французскій фронтъ совершенно прекратилась во {123} второй половине мая; къ начгалу іюньскаго наступленія соотношеніе, силъ стабилизовалось на обычной норме, a въ іюле и августе общее количество австро-германскихъ войскъ на русскомъ фронте даже увеличилось на девять дивизій и 640 т я-ж е л ы х ъ о р y д і й, правда, качественно более слабыхъ.
Къ концу августа власть заметно для всехъ стала крепче и организованнее. Советы утрачивали свое вліяніе, будучи вытесняемы органами земскаго и городского самоуправленія, избранными на основе всеобщаго голосованія. «Правы те, кто указывалъ, что Советы два месяца тому назадъ были сильнее. Мы, действительно, стали слабее, – говорилъ после іюльскаго кризиса власти наиболее авторитетный лидеръ Советовъ Церетели. Соотношеніе силъ изменилось не въ нашу пользу». И этотъ самый моментъ силы, жаждавшія ударить по левому, большевистскому хвосту февральской революціи, выбрали для того, чтобы ударить по центру, по правительству, «бездеятельному и колеблющемуся». И только начавшая выпрямляться и крепнуть власть снова утратила съ такимъ тяжкимъ трудомъ добытое равновесіе. Вынужденное опереться и на большевицкое охвостье въ борьбе противъ ген. Корнилова, правительство революціи пало жертвой этого охвостья.
5.
Неудача корниловскаго возстанія въ конце августа была, хронологически и политически, ближайшей причиной большевицкой удачи въ октябре 17 года. {124}
Конструируя исторію революціи, П. Н. Милюковъ приписываетъ обывателю, что это онъ, – «видя безсиліе и связанность д a н н о й власти, начиналъ искать другой, настоящей. И, смотря по политическому настроенію, за Керенскимъ уже вырисовывались – либо Корниловъ, либо Ленинъ»... Надо ли подчеркивать, что эти настроенія и поиски гораздо сильнее были среди политиковъ определеннаго толка, нежели среди обывателей. Не обыватель придумалъ формулу, до сихъ поръ еще пользующуюся успехомъ въ определенныхъ правыхъ кругахъ даже эмиграціи – лучше ленинцы, чемъ полуленинцы, лучше волевые коммунисты, чемъ безвольные и «постоянно колеблющіеся» соціалисты. Не обыватель, a «русскіе общественные круги, въ частности кадеты, обещали намъ свою полную поддержку, – читаемъ мы y сподвижника ген. Корнилова ген. Деникина («Очерки Русской Смуты». Т. II, стр. 33). Мы были y Милюкова и Рябушинскаго. И та, и другая группа обещали поддержку y союзниковъ, въ правительстве, въ печати и деньгами»...
П. Милюковъ разсказываетъ въ своей «Исторіи» о все возраставшемъ «нетерпеніи патріотически настроенныхъ группъ»; о томъ, что одно время на роль заместителя правительства выдвигался, ставшій впоследствіи верховнымъ правителемъ Сибири, адм. Колчакъ, причемъ, «конечно(!), замена мыслилась въ иномъ по рядке, чемъ порядокъ переговоровъ и соглашеній съ органами революціонной демократіи»... Къ іюню,1 {125} во всякомъ случае не позднее іюля, относится подготовка переворота, въ которой приняли участіе Шульгинъ, В. Н. Львовъ, полковникъ Новосильцевъ, оренбургскій казачій атаманъ Дутовъ, позднее признавшійся, что между 28 августа и 2 сентября въ Петрограде долженъ былъ выступить онъ самъ, «подъ видомъ большевиковъ», т.е., съ провокаціонной целью. Цитируя записки Винберга (одного изъ участниковъ мюнхенскаго кружка монархистовъ, вдохновившихъ покушеніе на убійство Милюкова, при которомъ былъ убитъ Набоковъ), – авторъ «Исторіи» описываетъ, какъ между находившимися въ Петрограде офицерами-заговорщиками были распределены роли для захвата броневыхъ автомобилей, ареста Временнаго Правительства. ареста и к a з н е й наиболее видныхъ и вліятельныхъ членовъ совета и т.д. (В. II, 171).
Post hoc обнаружилось, какой утопіей и химерой была затея сочувствовавшихъ выступленію Корнилова круговъ. По сравненію съ ней «путчъ» Каппа въ Германіи – верхъ обдуманности и совершенства. П. Н. Милюковъ, въ заботе о своей политической прозорливости очень умно делаетъ, когда напоминаетъ, что въ личной беседе съ Корниловымъ въ Москве онъ еще 13 августа предупреждалъ Корнилова о несвоевременности борьбы съ Керенскимъ. Но историчечески, въ поискахъ причины октябрьской катастрофы, онъ находитъ ее не въ нецелесообразности и даже не въ несвоевременности выступленія Корнилова, a въ «положеніи, которое создалъ своей борьбой съ Корниловымъ Керенскій». Сводя все разъедавшія революцію {126} противоречія и конфликты къ личной альтернативе: Корниловъ или Ленинъ, – авторъ «Исторіи» крушеніе февральской революціи сводитъ къ тому же субъективному моменту – Керенскій, «не желавшій попасть въ руки Корнилова»2, попалъ въ руки Ленина. «Понималъ ли Керенскій, что объявляя себя противникомъ Корнилова, онъ выдаетъ себя и Россію съ руками Ленину?».
Въ тотъ моментъ, когда Корниловъ выступилъ противъ Керенскаго, врядъ-ли многіе понимали, что объективно это выступленіе равнозначно выступленію въ пользу большевиковъ. Во всякомъ случае, Керенскій не могъ не объявить себя противникомъ Корнилова: и не потому только, что ему лично ставка готовила «нечаянное» убійство, но и потому, что солидаризація Керенскаго съ Корниловымъ не Корнилова укрепила бы, a безповоротно губила бы Керенскаго. О корняхъ корниловскаго движения и сочувствіи къ нему со стороны «обывателя» можно судить по молніеносности и безкровности, съ которой его ликвидировали. Тотъ же атам. Дутовъ говорилъ: «Я бегалъ въ экономическій клубъ (контръ-революціоінная организація въ Петрограде, возглавлявшаяся Крупенскимъ) звать выйти на улицу, да за мной никто не пошелъ»... О вліяніи же Керенскаго, особенно на армію, не заблуждается и Милюковъ. Онъ указываетъ, что и «во время московскаго совещанія всемъ было ясно, что Керенскій, несмотря на провалъ, {127} все-таки не потерялъ еще того обаянія, которымъ пользовался ранее», и что даже после корниловщины Керенскій оставался «при всехъ оговоркахъ е д и н с т в е н н ы м ъ изъ видныхъ политиковъ, которому еще верила армія». Спрашивается, кто выдавалъ въ такомъ случае Россію Ленину, те ли, кто объявляли себя противниками Корнилова, или те, кто въ данной обстановке, объявляли себя противниками «единственнаго» человека, которому еще верила армія?
Трудно сказать, кто сильнее ненавиделъ Временное Правительство, возглавлявшееся Керенскимъ, – правые ли, сочувствовавшіе Корнилову, или большевики. Но большевики отдавали себе отчетъ въ обстановке и, от-менивъ назначенное ими выступленіе, подставили подъ удары Корнилоіва, вместо себя, ненавистное имъ правительство Керенскаго. Корниловъ же не понималъ политическаго положенія – онъ вообще «по части государственно-правовыхъ понятій былъ слабъ», по характеристике Милюкова, –съ темъ же азартомъ, который былъ y него накопленъ противъ большевиковъ, онъ обрушился на единственно возможное антибольшевитское правительство, заподозренное имъ въ попустительстве большевизму. Въ итоге – пораженіе Корнилова оказалось победой не столько для правительства, сколько для третьяго радующагося, для большевиковъ. Исторически это неоспоримо, и лишь политически моокно синтерпретировать» и «конструировать» ходъ событій иначе.
Излагая ходъ конфликта между Керенскимъ и Корниловымъ, Милюковъ особенно часто прибегаетъ къ психологическому анализу и догадкамъ о томъ, что каждый изъ главныхъ участниковъ драмы «видимо» думалъ, «вероятно» предполагалъ, «повидимому» учи- {128} тывалъ. Пригодснъ ли такой психологическій ключъ для историческаго познанія, и удобно ли П. Н. Милюкову какъ разъ въ данномъ случае пользоваться этимъ «ключемъ»? Милюковъ, выступавшій, правда неудачно, посредникомъ между Керенскимъ и Корниловымъ, какъ будто бы по одному этому, не говоря уже о партійно-политической заинтересованности, въ лучшемъ случае могъ бы быть свидетелемъ въ деле, a никакъ не адвокатомъ или прокуроромъ и темъ более следователемъ. Достаточно прочесть страницы, посвященныя въ «Исторіи» характеристике Керенскаго, чтобы убедиться въ томъ, что политика въ ней играетъ большую роль, нежели подлинная исторія, и что Милюковъ игралъ слишкомъ большую роль въ событіяхъ февральской революціи для то.го, чтобы быть ея нелицепріятнымъ историкомъ. Въ описаніи конфликта Корнилова съ Керенскимъ въ «Исторіи» особенно явственно проступаетъ печать времени и места ея составленія – Ростовъ на Дону, конца 1917 и начала 1918 годовъ, обороняемый генераломъ Корниловымъ.
6.
П. Н. Милюкоіва не удовлетворила, однако, роль «историка-современника». Онъ захотелъ стать одновременно и «будущимъ историкомъ» – сначала для иностранцевъ, a потомъ и для русскихъ. Отсюда его "Russia to-day and to-morrow" 1922 "Russlands Zusammenbruch" 25 г. и «Россія на переломе». – Большевицкій періодъ русской революціи 1927 г. Въ нихъ авторъ уже более «фаталистически» – или менее политически предвзято – выясняетъ «неизбежный характеръ» революціонныхъ событій, выводя ихъ изъ {129} трудностей войны и хозяйственной разрухи, изъ неподготовленности населенія къ практике народовластія, изъ запоздалости національныхъ и соціальныхъ реформъ, изъ малокультурносги, необразованности и т.д. «Россія на переломе» свободна отъ упрека, который со всемъ основаніемъ былъ нами обращенъ къ «Исторіи русской революціи»; она не ограничивается политической стороной революціи и касается событій, не только въ Петрограде происходившихъ. «Большевицкій періодъ русской революціи» изображенъ П. Н. Милюковымъ гораздо более исторично, близко къ действительности и объективно, чемъ періодъ до-большевицкій. Время и место написанія книги наложили свою печать и въ данномъ случае.
Авторъ проводитъ различіе между «отрицательной и положительной сторонами революціоннаго процесса, между его преходящими и временными фазами – и его постояннымъ, внутреннимъ значеніемъ», между «разрушительной» стороной революціи и «конструктивной». Онъ заранее допускаетъ и оправдываетъ «переоценку некоторыхъ явленій, получившихъ более объективное освещеніе въ свете исторической перспективы», какъ свидетельство отсутствія съ его стороны «слепоты и приверженности къ личнымъ увлеченіямъ или заблужденіямъ».
Отходъ отъ «белой борьбы» после ея «вырожденія» при ген. Врангеле и «новая тактика» выпрямили кругозоръ Милюкова, заставили его более объективно отнестись къ «общимъ, партійнымъ и личнымъ» причинамъ, определившимъ ходъ революціи, и соответственно съ этимъ несколько справедливее оценить и «поведеніе отдельныхъ лицъ и политическихъ партій». Теперь и Милюковъ призналъ, что «Корниловъ {130} оказался въ рукахъ правыхъ организацій, не преследовавшихъ еще, правда, определенной цели реставраціи и лишь мечтавшихъ о созданіи диктаторской власти. Но, конечно, правы те, кто утверждаетъ, что элементы, собравшіеся въ этихъ организаціяхъ, уже съ самаго начала были темъ, чемъ они оказались впоследствіи: элементами реакціонными. Здесь уже тогда зрела оппозиція не толыко противъ излишествъ революціи, но и противъ самой революціи» (т. II, стр. 9).
Это не значитъ, однако, что Милюковъ въ «Россіи на переломе», особенно въ томе 1-мъ, изменилъ свое отношеніе къ «левымъ элементамъ» и къ ихъ роли въ февральской революціи. Онъ ни въ малой мере не аннулируетъ, не отказывается и даже не отмежевывается отъ своей малоудачной «Исторіи русской революціи». Наоборотъ, всюду ссылается на нее, скрепляя эти ссылки ссылками на «Записки о революціи» Ник. Суханова...
Политическую позицію этого крайняго интернаціоналиста «далеко налево отъ советскаго центра, но въ то же время не, съ большевиками», Милюковъ мужественно сравниваетъ со своей собственной позиціей – «направо от советскаго центра, но не съ правыми элементами буржуазіи», которая ставила его «въ аналогичное положеніе съ другой стороны. Неудивительно, что въ характеристике положенія советскаго центра мы часто сходимся». И нимало не смущаясь этимъ неожиданнымъ сходствомъ, несмотря на «всю непріемлемость точки зренія Суханова и обиліе фантастическихъ неточностей(!)», Милюковъ рекомендуетъ семь сухановскихъ томовъ въ качестве «полезнаго дополненія къ моему собственному изложенію въ трехъ томахъ», т.е. къ разобранной нами выше «Исторіи русской революціи». {131}
Милюковъ заранее предвидитъ одинаково«е отношеніе со стороны критики къ тому, въ чемъ его позиція сходится съ позиціей его, казалось бы, антипода Суханова, т.е. къ ихъ согласной характеристике «советскаго центра», подъ которымъ разумеются умеренныя соціалистическія группы. Наша критика «Исторіи русской революціи» сохраняетъ такимъ образомъ все свое значеніе и п о с л е появленія «Россіи на переломе». Следуя примеру Милюкова, мы можемъ только отослать читателя къ нашему следующему очерку о сухановскихъ «Запискахъ» для того, чтобы убедить читателя въ совершенной непріемлемости характеристики, которую даютъ февральской революціи и виднейшимъ ея деятелямъ оба историка.
Не касаясь отдельныхъ фактическихъ неточностей «Россіи на переломе», – давшихъ С. П. Мельгунову поводъ написать спеціальную книжку: «Гражданская война въ освещеніи M. H. Милюкова». Парижъ 1929 г., въ свою очередь далеко не всегда свободную отъ «неточностей» всякаго рода, – мы остановимся здесь лишь наисходнойи общей точки зренія П. Н. Милюкова, какъ «будущаго историка». Какъ сказаио, она существенно отличается отъ точки зренія «историка-современника», «ближайшаго участника» описываемыхъ событій.
«Россія на переломе» страдаетъ уже чрезмерно фаталистическимъ подходомъ къ исторіи вообщс, и исторіи революціи въ частности. Ибо, по новейшему истолкованію П. Н. Милюкова, – «Русская революція не была бы революціей, если бы она остановилась на первой стадіи и не дошла до крайностей». У «всехъ н a c т о я щ и х ъ революцій», оказывается, есть своя c y д ь б а, a именно – «проделать все стадіи». Или иначе: не {132} проделай русская революція своей октябрьской «стадіи», и П. Н. Милюковъ, очевидно, не призналъ бы ее за «настоящую». «Пока не пройдены все естественныя стадіи, революція д о л ж н a (подчеркнуто Милюковымъ) следовать своему неизбежному курсу и не можетъ остановиться на середине. Революціонный пожаръ д о л ж е н ъ выжечь до тла все, что уцелело отъ низвергаемаго порядка, – не только все учрежденія, но и все пережитки психологіи» (т. 1, стр. 40-41).
Такое построеніе возбуждаетъ не одинъ, a рядъ вопросовъ.
Если «полевеніе» общій з a к о н ъ всехъ революцій, тогда не такъ ужъ какъ будто виноваты столь не-угодные Милюкову «левые элементы»?
Если после того, какъ революція происходитъ, историческая правота перемещается политически, справа налево, то ведь не только крайніе левые оказываются исторически наиболее оправданными, но и «советскій центръ» февральской революціи, т.е. заушаемые Милюковымъ, вместе съ Сухановымъ, умеренные соціалисты исторически оказываются более правы, чемъ, скажемъ, кадеты. Это ли хотелъ сказать лидеръ кадетской партіи, въ качестве «будущаго историка» Россіи?...
Пусть правъ П. Н. Милюковъ, и «раньше, чемъ стать большевицкой, Россія созрела для большевизма»! Но въ томъ, что Россія для большевизма созрела, повинны ведь и те, кто прямо или косвенно способствовали – сначала политически – срыву Февраля, a потомъ – исторіософически – частичному оправданію Октября! Ведь если бы П. Н. Милюковъ действовалъ иначе въ 17-мъ году, какъ политикъ, быть можетъ, и сейчасъ, въ качестве историка, не пришлось бы ему {133} становиться на сверхъ- или предъ- историческую точку въ изображеніи революціи по образцу древне-греческой судьбы-мойры!
И кто знаетъ, если бы слова Бьюкенена – «мы должны считаться съ темъ, что перевесъ сейчасъ на стороне соціализма; если мы хотимъ заручиться поддержкой для успешнаго окончанія войны, то должны привлечь его симпатіи» – служили регулятивомъ для Милюко»ва, какъ безсменнаго лидера своей партіи и министра иностранныхъ делъ перваго, решающаго фазиса февральской революціи, можетъ быть, и цитировать 'ти слова, сказанныя Альберу Тома, онъ сталъ бы совсемъ въ другомъ контексте....
Ходъ и исходъ русской революціи отъ того не стали бы, вероятно, иными. Несомненно инымъ было бы, однако, изображеніе П. Н. Милюкова и Россіи на переломе, и, темъ более, Исторіи русской революціи.
Примечания
1 Въ интереснейшихъ "Запискахъ" покойнаго ген. Врангеля, срокъ подготовки заговора относится даже къ апрелю 17 г. Уже на второй месяцъ после революціи бар. Врангелю, графу Палену и др. "удалось раздобыть кое-какія средства. Мы органиэовали небольшой штабъ, прочно наладили связь со всеми военными училіищами и некоторыми воинскими частями, расположенными въ столицахъ и пригородахъ, организовали рядъ боевыхъ офицерскихъ дружинъ. Разведку удалось поставить отлично. Былъ разработанъ подробный планъ занятія главнейшихъ центровъ города и захвата всехъ местъ, которыя могли бы оказаться опасны ми".
2 "Ординарецъ" ген. Корнилова, проходимец Завойко, едва ли не главный инстигаторъ всего Корниловскаго заговора и выступленія, говорилъ "честному маклеру" В. Н. Львову: "Разве Корниловъ можетъ поручиться за всякій шагъ Керенскаго? Выйдетъ онъ изъ дому, ну и убьютъ его... Ничего ужаснаго нетъ! Его смерть необходима, какъ .вытяжка возбужденному чувству офицерства" (В. П. 197).