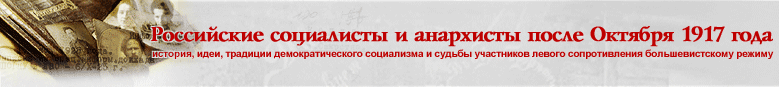
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Мартов и его близкие
| предыдущая | содержание | следующая |
Обрывки воспоминаний
ЛЕТОМ 1919 года, ко мне обратился, при посредстве одного общего знакомого, Юрий Ларин со странным, во всех отношениях неожиданным предложением. Мне было сообщено, что он предполагал сделать его Мартову, но в виду отсутствия последнего из Москвы, просит меня передать кому следует. Предложение состояло в том, чтоб меньшевики приняли участие в правительственной работе, для начала сосредоточив свои усилия на экономической области. В частности, Ф. И. Дан должен был вступить, по этому плану в Высший Совет Народного Хозяйства в качестве товарища председателя; другие видные меньшевики заняли бы подобные же посты в столице и провинции. Это было бы — мне заявили — началом того «соглашения», о котором Мартов и его единомышленники говорили и писали, начиная с осени 1917 г. и который считался чем-то вроде лозунга «левого меньшевизма».
Странно было, что предложение это исходило от Ларина, хотя он и подчеркивал, что действует в согласии с «вождями». Известно было, что Ларин был в это время другом Каменева; но и Каменев, было известно, стоял на «правом» крыле своей партии, слыл чем-то вроде соглашателя и далеко не во всем был в согласии с Лениным. Почему же именно Ларин?
Но с другой стороны ясно было, что предложение было обдумано. Не предлагали меньшевикам просто вступить в правительство; даже пост председателя Высовнархоза ((ВСНХ) для них не намечался. Дан должен был, с одной стороны, служить столпом «соглашения», а с другой, заложником и работать под строгим контролем.
В это время Мартов проводил несколько недель на даче, в окрестностях Москвы. Этот факт сам по себе был показате- {103} лен: это был самый разгар гражданской войны, страсти в обоих лагерях разгорелись до пределов; но меньшевистские организации и партийная жизнь были парализованы, большинство вождей разъехалось, а идейный руководитель имел возможность взять отпуск на несколько недель и уехать из столицы. Он не уехал бы, если б оставалась хотя бы малейшая надежда на какую-либо активность.
В это воскресенье стояла нестерпимо жаркая погода, и я был рад, когда нашел извозчика, согласного поехать так далеко, в те дачные места. За городом голодная лошадь медленно тянула коляску через глубокий песок. Не без труда я разыскал тот дом и ту семью, где Мартов проживал.
Когда я ему передал о сделанном предложении, его ответ был категорическое и окончательное нет. Он тоже не был уверен, говорил ли Ларин от имени Ленина, но во всей политике советского правительства того времени не было тех элементов, того поворота, который давал бы малейшую надежду на соглашение. Террор продолжался с неослабной силой, насаждались Комбеды, «социализация» продолжалась. При этих условиях включение нескольких меньшевиков в руководящие органы советского хозяйства было бы даже не соглашением большевизма с меньшевизмом, а капитуляцией последнего. Предложение Ларина (или Ларина-Каменева? или Ларина-Ленина?) ему представлялось подвохом.
Он не счел даже нужным отложить решение вопроса, чтоб иметь время опросить других вождей своей партии, — так ясно было ему положение. Сказать Ларину, что окончательный ответ будет через неделю, означало бы, что предложение обсуждается серьезно в меньшевистской «головке». Нисколько не склонный к превышению власти и личной диктатуре, Мартов просил меня передать Ларину о полном и окончательном отказе.
Впрочем, Мартов не оставил идеи соглашения, всё чаще называя ее, однако, «нормативной» идеей, но всё меньше веря в ее реальность. За «нормативную идею» соглашения и Мартов и другие вожди левого крыла держались потому лишь, что на этих путях они видели возможность благополучного и «демократического завершения» революционного развития. Исходя из исторических и идеологических соображений, Мартов стоял за «соглашение», сознавая в то же время полную невозможность его реализовать. Это было противоречие. Но и в самом характере Мартова, в его многосторонности, в его {104} умении сочетать сотни за и против заложены были противоречия, достигшие в этот после-революционный период трагических размеров.
Осенью 1920 г. Мартов решил ехать в Германию, чтоб выступить с докладом на съезде Независимой Социалистической Партии. В этой партии шла борьба двух течений и Зиновьев был приглашен как докладчик со стороны левых. Наркоминдел выдал Мартову паспорт без труда. Этот неожиданный либерализм объяснялся, однако, очень реалистическим политическим расчетом Ленина. Мне сделалось это ясно, когда через несколько месяцев я также обратился за паспортом в Наркоминдел.
Я знавал Литвинова раньше, в Лондоне: мы встречались в 1913 или 1914 г.г. Когда я зашел к нему, в начале 21 г., и заявил о желании получить паспорт, я ожидал прямого отказа: ведь незадолго перед тем я выступал на восьмом Съезде Советов с оппозиционной речью, требуя отмены продразверстки и замены ее налогом. К моему удивлению, Литвинов не отказал; к еще большему моему удивлению, он сказал: — Напишите заявление, надо спросить Ленина. Приходите через неделю за ответом.
— По такому, в сущности, маленькому делу опрашивать самого «вождя мирового пролетариата»?
— Иначе невозможно, – загадочно сказал Литвинов. Я написал «заявление» («прошения» были отменены, но сущность осталась та же), а когда я вернулся через неделю, Литвинов показал мне мое заявление с резолюцией Ленина, чтоб паспорт выдать. Литвинов объяснил:
— Ленин находит, что здесь вы все много вредите; будет лучше, если вы окажетесь заграницей. Там по крайней мере вы выступаете за признание советской власти.
В этот момент Ленин уж готов был повернуть к НЭП-у, и тем важнее было не подавать вида, что это уступка оппозиции.
Мартов так и не вернулся после этого в Россию.
Вспоминается небольшая картина из истории личных отношений Мартова и Ленина. Я помню заседание — вероятно зимой 1917-18 г., — где за председательским столом сидел и {105} Ленин; не могу вспомнить — ведь это было больше 40 лет назад — какой это был комитет или какая это была другая организация. Небольшая комната, человек 100; за небольшим столом Мартов говорит речь. Он не называет Ленина по имени, но по официальному «председатель совета народных комиссаров». У узкой стороны стола сидит Ленин и, повернув голову к оратору, с напряжением смотрит ему в лицо. Мартов говорит о самодеятельности народа, о живом общественном движении, потом, в этой связи говорит о старом земстве и то, что он говорит, делается туманным, даже непонятным для слушателей. Мне становится ясным, что, обращаясь к собранию, Мартов говорит прямо с Лениным, напоминая ему о каких-то давнишних разговорах, быть может когда они были еще друзьями, быть может в Лондоне. Ленин смотрит и явно понимает о чем идет речь.
Когда Мартов кончает, мы с ним вместе выходим из помещения. Он говорит:
— Неправда-ли, я удачно вышел из затруднения, называя его (председателем совета народных комиссаров. Я не мог назвать его товарищем, и не хотел назвать его ни господином, ни гражданином.
— У всех людей два глаза. У Мартова есть еще два глаза сзади в голове, — говорил его друг Павел Лапинский и прибавлял: — И такова вся меньшевистская политика под руководством Мартова.
Павел Лапинский-Михальский, большой личный друг Мартова в годы первой мировой войны, а затем и в Москве и в Берлине, был польский социалист из «левицы» ППС. Ровесники и почти единомышленники, они сблизились на циммервальсдокой и кинтальской конференциях, подчас выступая совместно против «правой» и «левой». Нельзя сказать, что Лапинский оказывал влияние на Мартова, это было-б слишком много. Но Мартов внимательно прислушивался к его голосу и рад был соглашаться с ним. Анжелика Балабанова рассказывает в своих воспоминаниях о том швейцарском периоде: «Совсем другого рода обаянием и влиянием пользовались Ю. О. Мартов и П. Л. Лапинский. Оба выдающиеся, интеллектуальные, критические и, в то же время, творческие натуры, они вносили в официальные работы (Циммервальдской) комиссии, в плодотворные частные беседы совершенно другого рода, не поддающийся внешнему {106} учету, вклад. Они углубляли или, если можно так выразиться, осложняли подход и решение многих вопросов, опускаясь в гущу теоретических предпосылок, поднимая их над уровнем повседневных, чисто-конкретных интересов, освещая их политически».
Умный, очень образованный, знаток европейской литературы и искусства, Лапинский, как и многие другие, не умел найти себе окончательное место. Ему трудно было переварить ленинский большевизм. Демократические «партии были для него «контр-революционны», а история Французской революции, которую он знал во всех деталях, представлялась ему и как образец, и как назидание. Позднее Лапинский, подобно многим таким же бездомным революционерам, пошел на сближение с ленинизмом, принял назначение на видные посты в Наркоминделе и вероятно играл за кулисами некоторую роль в эру Литвинова. Затем его втянули в работу Коминтерна, и он, не сознавая безвкусицы этого, писал большие, довольно нелепые доклады против социалистического реформизма. Лапинский пережил Мартова; Сталин расстрелял его в одну из своих чисток.
— У Мартова, — говорил он, — есть способность угадывать на расстоянии мысли друзей и противников. Он не умеет, как другие вожди, просто отвергнуть всё, что ему не по душе; от него критика не отскакивает, как например от Ленина. Он видит зерно истины и в атаках своих врагов; он ловит их идеи, он их продумывает и переваривает. Ленин видит слабые стороны своих противников и нещадно бьет в эти слабые точки. Мартов видит сильные стороны своих противников и когда он вырабатывает свою тактическую линию, он учитывает все мыслимые, даже воображаемые возражения.
В этом отношении Мартов олицетворял ту небольшую в сущности группу революционных деятелей, которые, отвергая белое движение во всех его формах, отказывались примкнуть и к ленинизму и осуждены были на политическую эмиграцию, всё равно оставались-ли они в стране или уходили из нее.
Я встречал Мартова два-три раза в Париже перед первой мировой войной, но не имел с ним личного контакта. Ближе я познакомился с ним летом 1917 г. в Петрограде. Первый серьезный разговор имел место при следующих обстоятельствах. {107}
Весной 1917 г. имели место выборы в Петроградскую Городскую Думу; среди избранных был и я. До Февральского переворота в Думе не было «левых» элементов; да и либералы были представлены не очень значительно. Теперь всё изменилось, и надо было устраиваться в незнакомом учреждении, где всё было чуждо. Когда зашла речь о том, как рассадить политические группы, нам казалось естественным, что группа большевиков займет крайние левые скамьи.
Некоторые из меньшевиков решительно восстали и потребовали для своей фракции крайний левый сектор: мы, мол, самые революционные из всех российских политических партий, никто нас не переплюнет в революционности. Это было наследие прошлого, но очень важное наследие, и историкам революции не удастся объяснить многое, если они не углубятся и не разберутся в этом психологическом комплексе. Некогда народники-террористы претендовали на крайнюю степень «революционности», потом Плеханов и марксисты много трудились над тем, чтоб доказать свое превосходство над эсерами по этой части. В борьбе течений внутри социал-демократической партии каждая фракция обвиняла другую в том, что она «в сущности» мелко-буржуазная и нереволюционная.
И вот теперь представился случай предъявить на деле претензию на крайнее место в спектре революционных партий. Так как мнения разошлись среди депутатов-меньшевиков, решили спросить Мартова. К этому времени Мартов еще не 1был официальным вождем партии; он был лидером «интернационалистского» меньшинства. К нему обратились потому, что, казалось, в вопросах, связанных с историей и идеологией он является наибольшим авторитетом. Нас было 4 или 5 человек. Мартов слушал нас, по своему обыкновению не глядя в лицо, как бы сосредоточенно слушая и думая. Это была его постоянная манера — говорил-ли он на большом собрании или вел частный разговор, он смотрел вниз, не глядя в глаза, как бы страстно переживая свою тему. На мгновение он подымал глаза, бросал взгляд на своих собеседников и, как бы охватив всех и всё мимолетным взглядом, продолжал по-прежнему смотреть вниз, думать и говорить. Была в этом особенная сила, сочетание скромности со страстью и глубокой мыслью, когда он своим хриплым голосом — он был уже болен туберкулезом — излагал передуманное и перечувствованное. {108}
Один из нас стал излагать ему вопрос: новое положение в Городской Думе, наши большие возможности и наши первые проблемы. Мы имеем возможность, говорил он, посадить всю меньшевистскую фракцию на крайне левые места.
Мартов, по обычаю, вскинул глаза, потом опустил их, потом минуту помолчал и вдруг необыкновенным, раздраженным голосом, чуть не фальцетом, закричал:
— Ни-за-что!
Он быстро успокоился и начал методически объяснять: нам нечего пытаться переплюнуть большевиков по этой части. Конечно, они бланкисты, авантюристы, вспышкопускатели, демагоги; конечно, они не революционеры в том смысле как марксизм понимает это слово. Тем не менее, надо уступить им крайние левые места. Мы не пойдем с ними на такие акты, как братание на фронте, мы не будем вместе с ними свергать Временное Правительство, хотя мы с последним и не согласны; мы не будем призывать армию расправляться с ее офицерами.
Отношение Мартова к «правому течению» в своей партии было воинственно-отрицательным; он говорил о «правых» с раздражением и возбуждением, и в этом отношении мало что изменилось в последний период его жизни. Борьба с правыми в партии поглощала большую часть его внимания, сил и мыслей. Он отвергал вооруженную борьбу против большевизма, осуждал попытки восстановить Учредительное Собрание на востоке, осуждал иностранную интервенцию и всех, кто ее поддерживал, и во внешней политике требовал признания советского правительства. Вскоре после того как Учредительное Собрание было распущено в Петрограде, Мартов говорил и повторял, что «история перешагнула через Учредительное Собрание». Его новая программа гласила: «свободные выборы в советы». Эту идею он развивал — и внушал ее партии — еще до того как первая советская конституция была провозглашена.
Была идейная цельность в этой программе, но в ней было мало политического реализма. Ее хорошо понимали и одобряли многие социалистические партии заграницей, как программу легальной оппозиции в рамках советского строя. В России, однако, слабость мартовской программы состояла в том, что Ленин и не думал терпеть ни легальной, ни нелегальной оппозиции и каждое слово критики с не-большеви- {109} стской стороны рассматривал как контр-революцию. Между тем к обвинению в контр-революционности Мартов был очень, пожалуй даже слишком чувствителен. Он стремился занять такую позицию, которая была бы чем-то средним между большевизмом и «революционной демократией». Это было более чем трудно; а для партии, которая хочет быть большой и активной, это было просто невозможно.
— Вы ходите по острию ножа, — говорил Латинский, — в этом «положении трудно удержаться и каждую минуту Вы рискуете свалиться в ту или другую сторону.
Действительно, трудно было держать этот курс. 1918 и 19 г.г. заполнены были, в истории меньшевистской партии многочисленными порицаниями, исключениями, осуждениями отдельных лиц и целых групп: за участие в восстании, за поддержку иностранной интервенции, за нарушение партийной дисциплины. Это был очень тяжелый период в политической жизни Мартова. Он понимал не хуже других деморализующее и разлагающее действие этих систематических исключений и отлучений. Но иного выхода не было. Он предпочитал — и отдавал себе отчет в том, что идет по этому пути — остаться вождем небольшой группы преданных, не-большевистских революционеров, чем деятелем большой партии, которую, по его мнению, не без основания можно было бы назвать контр-революционной.
Мартов очевидно знал заранее о предстоящем переходе Ф. Дана на левые позиции: он нисколько не удивился, когда Дан, незадолго перед тем вождь «меньшевиков-оборонцев», заявил в заседании Центрального Комитета, что он изменил свою позицию и ныне относится отрицательно к углублению «раскола в рабочем классе». «Раскол в рабочем классе» был обычным в то время термином для определения отношений между меньшевизмом и большевизмом. По понятиям того времени большевизм был одной «ветвью рабочего движения», меньшевизм — другой. Вооруженную борьбу надо заменить политической, в легальных рамках, а последняя «неизбежно» привела-бы к соглашению. Такова была позиция Мартова; присоединение к ней Дана усиливало «левых», и без того впрочем составлявших уже большинство в руководящих партийных органах.
Воспринимая основные идеи Мартовской политики, Дану трудно было, однако, остановиться на той промежуточной позиции, которую занимал Мартов. Дан теперь осуждал правых не менее решительно чем Мартов; но по складу своего {110} характера он не удовлетворялся хождением по острию ножа; он искал более твердой почвы. Политика Мартова была тонким кружевом; Дану нужна была крепкая материя. Мартов поражал каждый день блестками оригинальных мыслей; Дан держался годами за раз воспринятые формулы и идеи, вроде «углубления раскола», «угрозы бонапартизма» и др. В борьбе с «правыми» с.-демократами Дан теперь шел дальше Мартова.
Незадолго до приезда Дана в Берлин — это было зимой 1921-22 г. — Мартов получил от него письмо из Москвы на 5 страницах плотной голубой бумаги (тогда писали на чем попало, и по бумаге можно-б думать, что это любовное послание). На этот раз Мартов не прочел нам целиком этого письма. Но он был очень удручен. В тех абзацах, которые он громко читал, Дан не развивал цельной программы, но курс его был ясен. Мартов был подавлен.
Вскоре затем Дан приехал в (Берлин. Наметились ли новые разногласия в тот короткий период до смерти Мартова, который они провели вместе, не помню; едва-ли всё прошло гладко. Но в этих разногласиях 1922-23 г.г. уже наметилась дальнейшая эволюция Дана, который во второй половине 1920 годов требовал поддержки Троцкого и троцкистов в борьбе против «правой оппозиции», затем в 30-ых г.г. создал свою фракцию и свое «левое» течение в рамках Заграничной Делегации и «Социалистического Вестника»; и, наконец, в годы второй мировой войны усвоил политический курс, который многим друзьям Мартова представлялся очень далеко идущим отходом от мартовских позиций...
В первых числах апреля 1919 г. почти все активные деятели меньшевиков оказались арестованными, а в числе их был также и Юлий Осипович. Но в то время как все арестованные были отправлены в Ч.К., а оттуда в Бутырскую тюрьму, Мартов содержался под домашним арестом. Это был исключительный случай. Я не знаю других случаев домашнего ареста по отношению к не-коммунистам в это время. Мой адрес по случайным причинам не был известен Ч.К. и я оставался на свободе. Все сильно тревожились за судьбу Юлия Осиповича, никто не знал, понимает-ли Чека под домашним арестом то, что обычно понимают, или же она придумала что-нибудь особенное, что могло внушать самые худшие опасения. На второй день я позвонил по телефону к Мартову. {111} Но у телефона появился один из охранявших его чекистов и объявил мне, что «тов. Мартов не имеет права говорить по телефону». Пришлось пуститься на хитрость.
Часа через три зашел я в профессиональный союз печатников, где мог свободно пользоваться телефоном (я жил в эти дни не дома). Я позвонил по телефону к Мартову и потребовал дежурного агента. Очень решительным голосом я ему заявил:
— Говорит председатель МЧК, Мессинг. Как ваша фамилия?
Он назвал себя.
— Всё-ли в порядке у Мартова? Не приходил ли кто? – Он дал успокоительные ответы, и тогда я приказал ему:
— Позовите самого Мартова к телефону! Когда Юлий Осипович подошел к телефону, я ему в двух словах объяснил, в чем дело:
— Держитесь со мной как с председателем МЧК. – Не пришлось долго объяснять. Мартов сразу вошел в свою роль, и вдруг на меня посыпался град самых энергичных выражений:
— Я заявляю самый решительный протест против этого безобразия. Я требуют немедленного удаления стражи! Или же переведения меня в Бутырскую тюрьму.
Последние подозрения дежурного чекиста, который стоял тут же подле Ю. О., были очевидно рассеяны. Я стал расспрашивать о состоянии здоровья. Мартов отвечал, конечно, очень сухо и коротко, пересыпая ответы каждые две-три минуты «самыми решительными протестами». Я узнал, однако, что он совершенно здоров, имеет достаточное питание и, несмотря на назойливость охраны, чувствует себя в общем вполне удовлетворительно.
Но что сделать для его освобождения? Один из его личных друзей обратился к Луначарскому. Луначарский тут же в его присутствии, позвонил по телефону Ленину.
— Нет — заявил Ленин, — его освободить нельзя. Мартов слишком умный человек: пускай посидит.
Через несколько дней, однако, режим домашнего ареста у Мартова смягчился. Бойкая и ловкая прислуга квартиры, где жил Мартов, сманила чекистов на кухню, где они стали весело проводить время. Это было уже малой хартией вольностей для Мартова.
А еще через несколько дней арест был снят. {112}
В политической биографии Мартова война с Польшей 1920 года займет большое место — это был один из тех случаев, когда Мартов подымался на большую высоту, обнаруживая необыкновенную проницательность и ту исключительную интуицию, которая сделала его идейным вождем своей партии.
Таких больших актов интуиции в жизни Мартова, по моему мнению, было три. В первый раз он обнаружил свои способности на втором съезде партии, когда в сухом «первом параграфе» устава в ленинской формулировке, разглядел контуры будущей диктатуры в партии и диктатуры в стране — и повел свою фракцию на раскол. Вторым случаем было (публичное разоблачение Мартовым «Спасители или Упразднители?», 1911 г.) денежных операций ленинского Ц. К., его связи с «экспроприациями» и др. Принципиальная аморальность и неразборчивость в средствах были так ясны и так отвратительны, что Мартов не мог промолчать; он чувствовал, что если когда-нибудь, в более благоприятных для большевизма условиях, эти элементы политики и характеров найдут новое поле для применения, из них вырастет и принципиальное беззаконие, и красный террор, и вся мерзость сталинских чисток.
Третьим случаем — не менее важным, хоть и менее известным, была позиция Мартова в период польско-советского конфликта. В оборонительной фазе войны — апрель-май 1920 г. — Мартов видел уже ростки будущей агрессивной операции против Запада: «Ленин наверно считает свою тактику чертовски-хитрой», говорил Мартов, и поэтому надо громко объявить о своем отношении к «зондированию Польши штыком» и «несению революции на острие штыка». В сущности, в политике Ленина того времени уже были заключены сталинские походы 40-ых г.г., создание сателлитной империи и наступательные операции советского правительства в 50-ых г.г., которые сделались первой мировой проблемой в наше время.
Когда польские войска, перейдя советскую границу в последних числах апреля 192'0 г., стали теснить Красную Армию, быстро продвигаться на восток и приближаться к Киеву, не было сомнения, что война носит для России оборонительный характер. Так смотрели на это и не-большевистские партии. Эсеры подали заявление об этом их отношении в пре- {113} зидиум Московского Совета; генерал Брусилов и другие офицеры старого времени заявили о готовности работать для Красной Армии. Меньшевики объявили мобилизацию членов партии для войны.
На 5-ое мая назначено было торжественное «Соединенное заседание Московского Совета, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, фабрично-заводских комитетов и правлений профсоюзов» по вопросу о войне с Польшей; кто-либо из меньшевиков, очевидно, Мартов, имел возможность получить слово. Для подготовки состоялось незадолго до того — вероятно накануне — заседание Центрального Комитета. Оборонческая позиция в этой войне не вызывала возражений; помнится, не было сомневающихся. Но для многих было неожиданным предупреждение Мартова: из отдельных фраз, обрывков речей и мимолетных замечаний Ленина и других вождей русского коммунизма у него сложилось твердое убеждение, что, если удастся Красной Армии отбросить поляков и перейти в наступление, ей приказано будет прорваться на запад, занять Варшаву, пройти в Германию и возобновить борьбу с Антантой. Поэтому необходимо, находил Мартов, с самого начала ограничить «оборончество» партии в этой войне чисто-защитительными целями и, как это ни трудно в этот момент, заявить протест против планов военной агрессии против запада.
Действительно, это было и трудно и опасно. Поляки всё еще одерживали победы и голоса оппозиции, всяческие возражения квалифицировались бы как измена. Время было жестокое, кровавое; чека бесновалась. Помню лишь одного из членов Центрального Комитета — одного из старейших — который осторожно возражал Мартову; видно было, что к политическим соображениям у него примешивался и вполне естественный, законный страх. Решение было принято в согласии с предложением Мартова и ему поручено было сделать заявление в заседании Совета. Много личного мужества требовалось для этого выступления.
У меня нет полного текста его речи; не знаю можно-ли его найти. Сокращенное изложение ее, по-немецки, имеется в брошюре, изданной вскоре в Берлине. Получив слово после Ленина и других официальных ораторов, Мартов заявил о поддержке политики обороны и выразил уверенность в победе. Но затем, осторожно выбирая слова, он говорил: «Мы надеемся, что советское правительство в этой ему навязанной войне сумеет избежать внесения всякого элемента, который при- {114} дал-бы этой оборонительной войне националистический1 характер, чтобы таким образом не дать возможности польским имущим классам представить польским массам эту войну так, будто она является продолжением того старого спора, кото рый существовал еще при господстве царей в России. Исходя из этого убеждения, наша партия заявляет, что она будет поддерживать каждый шаг советского правительства, направленный на то, чтобы то возможности скорее закончить эту войну и заключить приемлемый для обеих сторон мир, который обеспечит нашей революционной стране возможность мирного строительства». Мартов требовал от правительства «более прочного курса, продолжения переговоров с лимитрофами» и исправления «всего того вреда, который был причинен в последнее время».
Мартова поняли; ему не дали дальше говорить. Пресса замолчала эту критическую часть его речи, или скомкала ее так, что понять ничего невозможно было. «Известия» писали, что «Мартов стал нудно и довольно слабо-обоснованно критиковать отдельные дипломатические шаги правительства... Стали раздаваться возгласы «довольно». Мартову пришлось скомкать свою речь». «Правда» говорила, что Мартов обещал поддержку, но... «никак не мог удержаться от соблазна вспомнить все смертные грехи советской власти; возмущенное собрание лишило его этого удовольствия».
Лишь значительно позднее стало известно, какие планы зрели в то время в ленинской «верхушке». Мартов был прав: наступление на Польшу — Германию было личной идеей Ленина, к которой он постепенно склонял колеблющихся. Среди последних были Троцкий, Сталин, Рыков и Радек; их Ленин переубедил. Троцкий пишет в своих воспоминаниях, что сам он так и остался при своих возражениях; однако, каково было его отношение к тактике «революционной войны» не совсем ясно.
В июне Красная Армия перешла в контр-наступление. Когда она подошла к польской границе, английское правительство предложило 12 июля перемирие на условиях, сравнительно благоприятных советской России. Ленин отклонил и телеграфировал Сталину на фронт: «Прошу ускорить распоряжение о бешеном усилении наступления». А 30-го июля в Белостоке «возник» Польский Революционный Комитет из {115} польских коммунистов, прибывших из Москвы, под председательством Мархлевского; это был зародыш польского марио неточного правительства. В своей прокламации он приглашал поляков изгонять капиталистов и строить Польскую Советскую Социалистическую Республику. (Эту технику револю ционной войны в сочетании с «невмешательством» Сталин повторил в 1939 г., когда для войны с Финляндией он организовал революционное правительство под премьерством Куусинена).
Красная Армия была отбита, не дойдя до Варшавы. Вскоре Ленин признал как далеко он метил в связи с польской войной.
«Если бы Польша стала советской, если бы варшавские рабочие получили помощь от советской России, которой они ждали и которую приветствовали, Версальский мир был бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы. Франция не имела бы тогда буфера, ограждающего Германию от Советской России. Она не имела бы тарана против советской республики... Вопрос стоял так, что еще несколько дней победоносного наступления Красной Армии, и не только Варшава взята (это не так важно было бы), но разрушен Версальский мир...
«Приближение нашей армии к Варшаве неоспоримо доказало, что где-то близко к нам лежит центр всей системы мирового империализма, покоящийся на Версальском договоре. Польша, последний оплот против большевиков, находящийся всецело в руках Антанты, является настолько могущественным фактором этой системы, что, когда Красная Армия поставила этот оплот под угрозу, заколебалась вся система... С приближением наших войск к Варшаве вся Германия закипела».
Обращаясь к съезду в Галле несколько дней спустя (в октябре 1920 г.) Мартов рисовал те же события следующим образом:
«Русская красная армия приближается к воротам Варшавы, организованные рабочие Англии и других стран, помня о многократных торжественных обещаниях советского правительства заключить мир с Польшей, как только она откажется от своих завоевательных планов, развивают максимальную энергию, чтобы принудить Антанту не оказывать Польше помощи и тем заставить Польшу сделать пред- {116} ложение о мире. Это достигнуто. Но красная армия продолжает продвигаться к Варшаве, переходит за Вислу, занимает Сольдау, а советская дипломатия явно для всех затягивает начало переговоров и, когда они наконец наступают, предъявляет польскому правительству требования, равносильные отказу этого правительства от власти, то есть, рассчитанные на то, что оно не сможет их принять. И все это делается после торжественного заседания Петербургского Совета, председателем которого является Зиновьев, и который принимает и публикует резолюцию: никакого мира с Польшей, пока в ней не свергнута буржуазия и не установлена советская республика! И всё это после того, как, вслед за красной армией, составленный из польских эмигрантов Революционный Комитет берет на себя роль временного правительства Польши, импортированного из России!..
«Зиновьев здесь заявил, что большевики не пытались втянуть Германию в новую войну с Антантой. Неверно! Не кто иной, как Троцкий, в разгар русских побед сказал в одной из речей: Мы дадим бой Антанте на Рейне. В Сольдау офицеры и комиссары красной армии в своих речах к демонстрировавшим германским националистам заявили, что Россия возвращает Западную Пруссию германскому отечеству. И, чтобы закрепить этот трогательный союз между германскими националистами и большевиками, начальник армии успокоительно публиковал: в виду аграрного характера этой провинции в ней не будут введены советы».
Не болезнь была самым тяжелым переживанием в последние годы Мартова — о болезни он не любил и не умел говорить — а упадок сил и распад того движения, которому он отдал свою жизнь и вне которого ничего для него не было.
В те годы, 1922-3, смутные надежды переплетались с отчаянием и разочарованием. Минутами казалось, что «что-то начинается» — были крестьянские движения, забастовки, известия о «рабочей оппозиции» против Ленина; думали, что после гражданской войны новая мирная атмосфера должна вызвать новые общественные движения. Строили «перспективы», делали «прогнозы».
Но вера в свои собственные прогнозы и перспективы была уже надломлена. Черви сомнения всё разъедали. О сомне- {117} ниях, которые росли начиная с 1918-19 г.г., не принято было говорить меж собой; выводы были бы трагические. Помню, как все смутились, когда Звездин, приехав из Москвы в Берлин, вдруг высказал открыто:
— Кто знает, может быть, всё это напрасно, быть может, придется повести другую жизнь, пить токайское вино и целовать красивых женщин...
Но уйти было некуда, особенно для вождей не было выхода. Тяжкие думы уживались с активностью, сомнения — со страстной борьбой за пункты программ и платформ, из которых ни одна не имела реального значения. Этот внутренний надлом и был вероятно тем недугом демократии, от которого она так и не смогла оправиться. Не было уж той слепой, абсолютной, нелепой веры в скорое торжество своего дела, которая двигает горами и сокрушает всё и вся.
Чем более человек был чуткий и впечатлительный — а таковым был Мартов — тем раньше и тем сильнее он начинал ощущать эту трагическую безвыходность. Он продолжал писать, дискутировать; он страстно ловил сообщения, даже слухи из Москвы. Он был как будто тот же, всегда живой, остроумный собеседник и ядовитый спорщик. Но бывало, и все чаще в разговоре он вдруг замолчит, и, как-бы забыв о собеседнике, поникнет головой и закроет усталые глаза. Было тогда в воздухе и отчаяние и безнадежность — и раскрывалась страшная бездна... {118}
Примечания
1 В немецкой брошюре употреблен термин «национальный»; это нелепо.