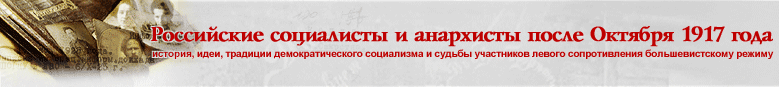
главная / о сайте / юбилеи / анонсы / рецензии и полемика / дискуссии / публикуется впервые / интервью / форум
Традиции русской общественной мысли
1
Больше года тому назад в «Вопросах Истории» (№ 9, 1955) была напечатана передовая статья, посвященная «некоторым вопросам истории русской общественной мысли». Начинаясь в мажорном тоне, рядом заявлений о «плодотворной» работе советских исследователей в этой области, статья переходит затем к критике допущенных некоторыми из них «серьезных ошибок вульгаризаторского и упрощенческого характера». Оказывается многие советские исследователи «стремятся приукрасить действительность», «произвольно подгоняют факты под определенную точку зрения» и даже «исходят не из объективной действительности, не из исторических фактов, а из субъективных побуждений и ложно понятых интересов политики». Так, например, одни исследователи, прибегая к «произвольным подчеркиваниям и умолчаниям», делают из Радищева «революционного демократа» и «идеолога крестьянской революции» в то время, как на самом деле он был только «дворянским революционером». Другие, желая «улучшить» взгляды Новикова, пытаются доказать, что он никогда не был масоном. В порядке такого же «улучшения» большинству декабристов приписывается «последовательное материалистическое мировоззрение, причем затушевываются их колебания и разногласия». «Сглаживаются» и рассматриваются как случайные «серьезные общественно-политические заблуждения» Гоголя. В «приглаженном и идеализированном виде» изображаются взгляды и петрашевцев, которые якобы были последовательными «революционными демократами, социалистами и материалистами» в то время как на самом деле они только «искали правильного пути и колебались в сторону либерализма». Такой же «идеализации» подвергся и Чернышевский, взгляды которого ошибочно сближали с «научным социализмом» и в котором, вопреки фактам, видели последовательного материалиста 1. Редакция «Вопросов Истории» обвиняет «некоторых» советских исследователей русской общественной мысли и в других грехах. Они игнорировали ту «очевидную истину», что эта мысль «испытывала огромное влияние передовых идей Запада». Между тем такое игнорирование «искажает историю»: «отрыв русской общественной мысли от общественной мысли других стран противоречит действительности, принижает ее, изолирует от всего хода исторического прогресса». Наконец, дефектом советской исторической литературы в этой области является еще и то, что она сосредоточилась на изучении «передовой» и «революционной» общественной мысли, не уделяя достаточно внимания другим, «менее известным» (!) мыслителям различных направлений. В числе этих забытых мыслителей оказываются Сперанский, Чаадаев, Станкевич, славянофилы и западники! Редакция «Вопросов Истории» поучает советских историков, что для правильного понимания исторической роли «передовых» мыслителей надо изучать также консервативные и реакционные направления и что не следует «целиком и полностью отождествлять либералов с реакционными крепостниками».
Я потому так подробно остановился на этой статье из «Вопросов Истории», что она, вопреки намерению ее авторов, дает очень яркую картину того систематического извращения истории русской общественной мысли, которое на протяжении десятилетий происходило в советской исторической литературе. Придерживаясь обычных правил советской «самокритики», редакция «Вопросов Истории» пытается приписать все указанные ею дефекты индивидуальным ошибкам некоторых историков, тщательно обходя вопрос о тех общих условиях, в которых этим историкам приходилось работать, — о том общем подходе, который им был предписан сверху и потому был для них обязателен.
Всякий, кто следил за соответствующей советской литературой знает, что все ошибки и упущения, отмеченные в этой статье, вовсе не были индивидуальными уклонами, а напротив являлись необходимыми составными частями той общей схемы развития русской мысли, которая была продиктована партийно-политическими целями советского режима. В поисках благородных предков, которые сделали бы его более респектабельным, этот режим стремился связать свою доктрину с «передовой» мыслью дореволюционного времени и изобразить себя в качестве ее естественного преемника и завершителя, а для этого нужно было соответственно ретушировать портреты в галерее предков — так, чтобы придать им возможно больше фамильного сходства с их мнимыми потомками. Вот почему не «некоторые» советские историки, а все писавшие на эту тему делали из Радищева «революционного демократа» и «идеолога крестьянской революции», так же, как другие преувеличивали «зрелость» воззрений декабристов и петрашевцев, по линии их революционности и материализма.
Вообще едва ли хоть один выдающийся русский мыслитель и писатель, которого можно было бы подвести под категорию «прогрессивных», избежал этого своеобразного причесывания на большевистский манер. Тем же, кто такому причесыванию не поддавался, обычно не уделяли особого внимания, и часто они суммарно характеризовались как «реакционеры». То различие между либералами, консерваторами и реакционерами, которое мы встречаем в редакционной статье «Вопросов Истории», есть в значительной мере новшество. В прошлом преобладала типичная большевистская «амальгама» — сваливанье в одну кучу, под общим осудительным ярлыком, всех идейных (как и политических) противников.
Всё это началось еще до Сталина и продолжалось в течение десятилетий — и всё это было отражением партийной генеральной линии. При Сталине, с введением официального советского псевдо-национализма, а позже — в связи с развитием «холодной войны» с Западом, к обязательной доктрине был добавлен еще один элемент: утверждение полной самостоятельности русской общественной мысли и отрицание роли западного влияния в ее истории. В редакционной статье «Вопросов Истории» это влияние признается «огромным», а забвение этой «очевидной истины» приписывается только «авторам некоторых работ». Можно подумать, что никакой ждановщины, с ее кампанией против «безродных космополитов» и «низкопоклонничества перед Западом», никогда не было.
По человечеству эту «фигуру умолчания» можно не только понять, но и простить. Хорошо уже и то, что редакция руководящего советского исторического журнала, хоть и с опозданием, но признала наконец за ошибки и даже прямое искажение истины то, что раньше считалось обязательной истиной. И тем не менее, едва ли можно надеяться на скорое и полное восстановление подлинной картины развития русской общественной мысли в советской исторической науке. Упрекая критикуемых ею авторов в ложном понимании «интересов политики», от самого принципа политического — т. е., в условиях советского режима, партийно-коммунистического — подхода редакция «Вопросов Истории» не отказывается и отказаться не может. Опираясь на непререкаемый авторитет Ленина, она по-прежнему ставит перед советскими историками как их главную задачу показать, как эта мысль, пройдя «сложный и трудный путь борьбы и исканий», перешла наконец на «позиции марксизма» (само собою разумеется, в его большевистской интерпретации). Таким образом и общий подход к проблеме, и схема исторического исследования, и конечные его результаты — по-прежнему определены заранее. И определены в соответствии с партийно-политическим заданием коммунистической диктатуры.
2
Всё это в порядке вещей и останется таковым до тех пор пока начавшаяся на нашей родине «оттепель» не приведет к настоящему таянию снегов и к неудержимому потоку «вешних вод». Такая перспектива в расчеты теперешних властителей России, конечно, не входит и осуществиться она может только вопреки их желаниям и намерениям, А в эти намерения не входит — и не может входить — распространение в подвластной им стране правильных представлений об умственном и культурном развитии дореволюционной России — о тех условиях, в которых оно происходило, и о тех традициях, которые оно вырабатывало. Правдивая картина этого развития для них опасна — опасна потому, что сравнение ее с той системой «культурного контроля», которую они, в течение вот уже почти сорока лет, пытаются навязать русскому народу, было бы для них в высокой мере невыгодным.
В правильном освещении и подлинно объективной истории русской общественной мысли советские читатели наших дней не могли бы не увидеть прежде всего разительного контраста между богатством разнообразия, отличавшего эту мысль в дореволюционное время, и тем унылым однообразием, которое водворилось в ней под гнетущим давлением официальной советской доктрины. Ни в один период русской истории, от 18 века до 1917 г. включительно, для русских мыслителей не существовало одной обязательной истины, одного — только одного — возможного подхода к проблемам мироздания, науки или искусства, личной или общественной жизни. Это был действительно «путь борьбы и исканий», процесс свободного соревнования различных философских, эстетических и общественно-политических течений, — того столкновения мнений, в котором только и может рождаться истина.
Факта этого разнообразия не решается отрицать даже и советская историография. Но она тут же обедняет его содержание и извращает его значение, приписывая его целиком наличию классовых противоречий в дореволюционном обществе и видя в нем не столько положительное, сколько отрицательное явление. Другое дело — созданное октябрьской революцией социалистическое общество, в котором, при отсутствии классовых противоречий, нет почвы и для идеологических разногласий. Отныне русская общественная мысль может наслаждаться обладанием навсегда установленной единой истиной. Нужно ли говорить, что в применении одинаково к истории и к современности это построение является именно «вульгаризаторством и упрощенчеством»? Без насилия над исторической действительностью русских мыслителей дореволюционного времени никак нельзя аккуратно разложить по классовым полочкам, так же как без насилия над очевидностью нельзя серьезно говорить об отсутствии социальных, политических и идеологических противоречий в современной России и изображать ее страной естественного единомыслия и единодушия. Главное же, что опорочивает эту схему, это сказывающееся в ней предельное непонимание необходимости умственной свободы для всякого рода культурного творчества.
В дореволюционной России, за исключением немногих обскурантов и еще более малочисленных наемных правительственных агентов, необходимость этой свободы понимали и отстаивали все умственные деятели — независимо от тех направлений, к которым они принадлежали. Начиная со второй половины 18 века ее одинаково отстаивали масоны и «вольтерьянцы», идеалисты и материалисты, славянофилы и западники, либералы и социалисты, народники и марксисты, «постепеновцы» и революционеры. Это была одна из основных и неотъемлемых черт дореволюционной русской интеллигенции. Можно сказать, что идейная независимость от правительственного давления была ее определяющим качеством.
Происшедшее после Октября вынужденное перерождение интеллигенции в служилый класс специалистов по культурным делам, поставленных в полную материальную зависимость от правительства и под его идейный контроль, является может быть самым трагическим примером тех насильственных изменений, которые советский режим произвел в русском общественном укладе. И в этом случае тоже — контраст между положением дореволюционным и современным чести советскому режиму не делает. Фикция добровольной солидарности советской интеллигенции с режимом настолько прозрачна, что она едва ли многих может обмануть. Против нее слишком громко говорят общеизвестные факты периодических чисток, организованных публичных покаяний, неоднократных изменений ранее высказанных научных мнений, в явной связи с необходимостью следовать зигзагам партийной линии, словом — весь мартиролог советской интеллигенции.
По понятным причинам прямых упоминаний об этом в советской литературе встретить нельзя. Но зато она часто и много говорит о преследовании царским правительством прогрессивных русских мыслителей, о цензурных стеснениях, от которых страдали выдающиеся русские писатели, или о репрессиях, которым подвергались некоторые университетские преподаватели. Для обвинительного акта этого рода материала в русском дореволюционном прошлом достаточно. И всё же... «Как посмотреть да посравнить век нынешний и век минувший» — сравнение получается не в пользу «века нынешнего».
Это не полемическое утверждение, а простое констатирование исторического факта. Оставим в стороне весь период, начиная со второй половины 19 в., в течение которого пределы умственной и культурной свободы в России непрерывно расширялись — пока в последнее дореволюционное десятилетие эта свобода достигла объема, о каком для сегодняшней России пока еще даже и мечтать не приходится. Возьмем царствование Николая 1-го, этот «апогей самодержавия» в русской истории — ведь это про него Герцен сказал, что оно было «удивительным временем внешнего рабства и внутреннего освобождения». Как это могло случиться?
У царского правительства того времени, при всех его огромных недостатках, было одно преимущество перед правительством советским; оно не было тоталитарным. Оно не ставило себе утопической задачи создать «новую породу» людей средствами государственного воздействия. Придумав формулу «самодержавие, православие и народность», оно не превратило ее в систематическую и всеобъемлющую идеологию — у него и в мыслях не было стать идеократией. Оно хотело, конечно, иметь, покорных, не посягающих на его авторитет подданных и для этого стремилось охранить их от «заразы» «разрушительных» идей. Его цензура носила поэтому преимущественно негативный характер: не допускать выражения превратных идей, не позволять обсуждения щекотливых общественно-политических вопросов.
Но, за исключением субсидируемых изданий официозного характера, оно не могло да и не пыталось заставить писателей говорить то, чего они говорить не хотели. Оно не бралось предписывать им, что и о чем они могли писать или как они должны были писать. И уж, конечно, оно не выступало в роли верховного арбитра научных и литературных стилей! Помимо того, для установления действительного всеобъемлющего контроля над всеми проявлениями национальной жизни в его распоряжении не было и тех технических средств, какими располагает современное тоталитарное государство. Даже пресловутое третье отделение кажется ученическим опытом по сравнению с тем колоссальным аппаратом принуждения и подавления, какой удалось создать советскому режиму. Не было у него и сколько-нибудь достаточного пропагандного аппарата для постоянного воздействия на умы и души. Оно не имело монополии на все без исключения средства публичного выражения философской, научной, общественной мысли или литературного и художественного творчества. И наконец ему приходилось обходиться с помощью бюрократической администрации традиционного типа и ничего подобного коммунистической партии в его распоряжении не было. В этих условиях оно никогда не могло осуществить полностью те внутренне-политические задачи, которые оно себе ставило. Его формально абсолютная власть на деле была ограничена его неумелостью — великое благо, когда речь идет об авторитарном или деспотическом правительстве.
Только поэтому эта эпоха «внешнего (т. е. политического) рабства» могла стать и эпохой «внутреннего (т. е. умственного и культурного) освобождения». Царствование Николая 1-го было не только периодом блестящего расцвета русской художественной литературы, но и временем, когда сложились многие из основных течений русской общественной мысли — сложились независимо от правительства и вопреки правительству. Можно ли представить себе возникновение подобного явления в современной России пока она остается под властью коммунистической диктатуры?
3
При всём разнообразии русской общественной мысли дореволюционного времени в ней всё-таки можно выделить некоторые основные черты, общие для большинства ее течений и настолько постоянные, что их можно рассматривать как традиции.
Как я уже указывал, эта мысль была прежде всего свободолюбива. Было бы ошибкой понимать это свободолюбие только в смысле политическом. Конечно, задача политического освобождения играла очень большую роль в идеях, настроениях и планах русской интеллигенции, начиная с декабристов, и с течением времени задача эта в их сознании становилась всё более настоятельной. Но за этой политической задачей, а в некоторых случаях и независимо от нее, стояла основоположная идея свободы человеческой личности.
Вопреки распространенному в некоторых западных кругах представлению, что русская мысль по природе своей коллективистична и не выработала ясного понятия личности, правильно было бы утверждать прямо противоположное: что у целого ряда русских мыслителей, притом очень друг от друга отличных, можно найти чрезвычайно острое сознание ценности и достоинства человеческой личности и ее неотъемлемого права на свободу. Пушкин не был ни философом, ни политическим мыслителем, но его поэзия проникнута чувством свободы — именно в этом более широком смысле. В исканиях идеалистов 30-х годов проблема человеческой личности и ее свободы занимала едва ли не главное место. Знаменитый бунт Белинского против Гегеля был поднят им во имя отдельной человеческой личности, которую он отказывался принести в жертву какой-либо «всеобщности». У Герцена чрезвычайно широкое понятие свободы, переходившее далеко за рамки даже самых радикальных политических и социальных изменений, в основе своей тоже имело идею личной свободы — свободы человеческой воли, человеческого творчества, человеческой мысли. Выработанное славянофилами понятие «соборности», опять же вопреки распространенному заблуждению, не только не исключало свободной человеческой личности, но наоборот ее предполагало. Писаревский «нигилизм» был прежде всего стремлением к эмансипации личности от мешающих ее свободному развитию традиций, авторитетов и условностей. Народничество 70-х годов было «религией социального долга», но среди его учителей были Лавров, видевший главного двигателя прогресса в «критическимыслящей личности», и Михайловский, поднявший знамя «борьбы за индивидуальность». Одновременно Достоевский, человек совсем другого лагеря и других политических взглядов, тоже сделал вопрос о личности и ее свободе центральным пунктом своей тематики.
Так исходя из разных мировоззренческих предпосылок, во многом несогласные между собою русские мыслители сходились на признании непререкаемой ценности человеческой личности. Для всех них одинаково — не человек был для субботы, а суббота для человека. Никто из них не соглашался примириться с тем, чтобы человеческая личность была превращена в простое средство для достижения каких-либо государственных, национальных, политических, расовых или классовых целей. Напротив, именно благо этой человеческой личности, понимаемое, конечно, не в одном только материальном смысле, было в их глазах верховным мерилом в оценке всякого государственного и общественного строя, всякой программы его переустройства, всякой теории исторического прогресса.
Это подчеркивание значения и ценности личности не приводило, однако, ни одно из указанных мною течений к узкому индивидуализму ницшеанского или иного сходного типа, не приводило потому, что в их индивидуализме была необыкновенно сильная этическая струя, ярко выраженное моральное чувство. Свобода личности была для них неразрывно связана с ее ответственностью, с сознанием ее нравственного долга перед каждым из «братий по крови», как писал Белинский. В народничестве 70-х годов эта связь свободолюбия с народолюбием сказалась с особой напряженностью, и знаменитое «хождение в народ», при всей его политической неподготовленности и бесплодности, навсегда останется примером высокого морального воодушевления и бескорыстной жертвенности.
Но ведь та же черта, хотя бы и не всегда в такой же драматической форме, проявлялась задолго до появления народничества (вспомним хотя бы Радищева) и осталась характерной для русской интеллигенции и в дальнейший период ее истории. Едва ли будет преувеличением сказать, что в Европе 19-го и начала 20-го века Россия была страной, интеллигенция которой выделялась сильно развитым чувством социальной справедливости, постоянной озабоченностью о судьбах народа и желанием ему послужить.
И так же как в вопросе об отдельной человеческой личности, так и в своем отношении к народу (в условиях того времени это было прежде всего крестьянство) русская интеллигенция видела в нем не средство для достижения своих целей, не опытное поле для произведения социально-политических экспериментов, а своего рода коллективную личность, в которой она уважала ее самобытность и чаяния и нужды которой она стремилась познать. Пусть это ей не всегда удавалось, пусть в своих попытках определить народную самобытность представители отдельных ее течений далеко не всегда между собою сходились, — ценность ее общего подхода это нисколько не умаляет. За немногими исключениями, в духе своего отношения к народу дореволюционная интеллигенция была едина. Я не знаю лучшего выражения этой основной солидарности, чем замечательные строки, которые Герцен написал о славянофилах в январе 1861 г., после смерти Константина Аксакова.
«Да, мы были противниками их, но очень странными: у нас была одна любовь, но не одинокая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
С признанием за народом права на самобытное существование была неразрывно связана идея народной самодеятельности, народного самоуправления. В своем логическом развитии эта идея приводила к мысли о необходимости создания в России правового демократического государства. Не все из свободолюбивых течений русской общественной мысли пришли к этому выводу с надлежащей быстротой, а некоторые из них и вообще его не сделали. Так славянофилы до конца не изжили своих иллюзий насчет возможности обеспечить русскому народу свободное и самобытное развитие на основе неписаного соглашения между народом и благожелательной властью, без каких бы то ни было конституционных гарантий. Ранние народники, правда — по другим мотивам, тоже проявляли некоторое равнодушие к проблемам политического оформления народной свободы и относились с недоверием к существовавшим тогда на западе образцам конституционного строя. Но уже к концу 70-х годов наиболее активная часть народничества, в лице партии Народной Воли, пришла к сознанию необходимости бороться в первую очередь за политическую свободу и за установление в России демократического государственного строя.
Как бы то ни было, и здесь наиболее существенным является не различие между отдельными течениями русской общественной мысли, в тех или иных деталях их политических построений, а сходство между ними в основном подходе. Важнее всего то, что для свободной русской дореволюционной мысли, за ничтожными исключениями, характерны отсутствие культа государства как самостоятельной ценности и настойчивое подчеркивание его чисто служебной роли. Не человек для государства, а государство для человека! И это подчеркивалось так часто и подчас с такой силой, что иногда даже могло произвести впечатление склонности к анархизму. На самом деле, несмотря на то, что самые знаменитые анархисты XIX века, Бакунин и Кропоткин, оба были русские (к этим двум именам можно прибавить еще третье — религиозного анархиста Толстого), — анархизм, как определенное политическое течение, никогда не играл в России сколько-нибудь значительной роли. Необходимость государственной власти признавалась, но отрицалась законность притязаний с её стороны на всемогущество, на установление контроля над всеми проявлениями национальной жизни. Славянофилы, как известно, были сторонниками монархии и притом монархии не ограниченной конституционными постановлениями. Но в славянофильской концепции власть монарха должна была быть неограниченной только в пределах определенно ограниченной сферы действия: защиты внешней безопасности страны и обеспечения порядка внутри страны. В обмен на предоставление ей полноты власти в этой области, славянофилы настаивали на добровольном отказе монархии от вмешательства во внутреннюю жизнь народа, под которой они понимали не только религию, образование и вообще всю национальную культуру, но и экономическую деятельность. Нужно ли говорит, что идея всемогущей и всеобъемлющей государственной власти была одинаково чужда как народничеству, с его приверженностью к общинному началу, к областничеству и вообще к децентрализации, так и русскому конституционному либерализму.
Можно утверждать поэтому, что преобладавшие в дореволюционное время идеи о нормальной роли государства в народной жизни представляли собою прямую противоположность современной тоталитарной концепции.
Не была популярна в русской общественной мысли, включая радикальные ее течения, и идея революционной диктатуры. Еще Радищев осуждал Кромвеля за то, что он, освободив Англию от деспотизма Стюартов, установил в стране свое собственное деспотическое правление. Для Радищева образцом достойным подражания был Вашингтон, который, после достижения американской независимости, добровольно сложил с себя свои полномочия, предоставив народным представителям выбор главы вновь образованного государства. Очень интересны и показательны политические высказывания молодого Пушкина, переживавшего в те годы (1817-1825) свою наиболее «радикальную» фазу. В оде «Вольность» (1817), несомненно вдохновленной Радищевым, Пушкин объявляет своим идеалом
«...с вольностью святой
Законов мощных сочетанье».
Там, где это сочетание свободы с законом нарушается, открывается дорога для насилия. Оно оправдано только тогда, когда иных средств для борьбы с нетерпимой тиранией не остается. Вот почему Пушкин признает необходимость убийства «увенчанного злодея» Павла I, но осуждает как преступление — казнь «мученика» Людовика XIV-го. Та же мысль и в «Кинжале» (1821). Кинжал это — «последний судия позора и обиды». К нему приходится прибегать только там «где дремлет меч закона». Пушкин видит историческую Немезиду одинаково и в убийстве Юлия Цезаря «вольнолюбивым» Брутом, и в убийстве Марата — Шарлоттой Корде. Вот как он говорит о Марате.
«Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник».
Еще сильнее осуждение применяемого революционным правительством террора в «Андрее Шенье» (1825). Пушкин вкладывает это осуждение в уста Шенье, которого он называет «певцом свободы».
«Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас, о позор!»
Я остановился на политических стихах молодого Пушкина во-первых потому, что они несомненно отражают взгляды распространенные в передовых кругах русского общества того времени, — а время это непосредственно предшествовало декабрьскому восстанию. В связи с этим не мешает отметить, что при всем личном престиже Пестеля среди декабристов те авторитарные элементы в его политическом облике, которые роднили его с якобинцами, сочувствия со стороны большинства членов Тайного Общества не встречали. Во-вторых, ярко выраженное в пушкинских стихах отрицательное отношение к якобинской фазе французской революции (т. е. к периоду революционной диктатуры) стало своего рода традицией в русских оппозиционных и даже революционных кругах. Позднее термин «якобинец» применялся в осудительном смысле к таким революционным деятелям как Нечаев и Ткачев, причем под якобинством понималась сугубо заговорщицкая деятельность, не связанная с массовым движением и направленная на захват власти революционной элитой, рассчитывающей оставить за собой эту власть и после победы революции. Конечно, партия «Народной Воли» тоже состояла из революционной элиты (ее Исполнительный Комитет и был «партией»), а среди ее членов были люди с якобинскими тенденциями, но всё же партия в целом на позиции революционной диктатуры не стояла. Напротив, она выдвинула идею созыва свободно избранного Учредительного Собрания, решениям которого она вперед обещала безоговорочно подчиняться. Из духовных родоначальников народничества — авторитарные, якобинские настроения и мысли можно найти у Бакунина, но как раз они на русских «бакунинцев» того времени влияния не оказали. О каком-либо якобинстве у Герцена и говорить не приходится. Человек огромной внутренней свободы, он не признавал никаких внешних авторитетов, в том числе и революционных. Поклонение «фригийской шапке» (символ французской революции) было для него так же неприемлемо как и поклонение любому монархическому символу. В его глазах революционное идолопоклонство было ничуть не лучше всякого другого 2.
На протяжении всей второй половины XIX века и первых десятилетий XX века демократическая концепция революционного переустройства России, основанная на идее массового движения и народной самодеятельности, неуклонно укреплялась за счет якобинских (или как позднее стали говорить — бланкистских) тенденций, и в ней стали видеть единственный возможный путь к достижению поставленных русскими радикальными партиями целей. От Герцена до Плеханова включительно, видные представители русской общественной мысли выступали с предостережениями против отклонения от этого пути, указывая, что авторитарная, диктаторскими методами навеянная революционная программа не могла привести ни к демократии, ни к социализму. Она могла привести только к новому и худшему народному рабству — к господству того «самодержавного коммунизма», о котором так пророчески писал Герцен.
4
В мою задачу не входит изложение истории образования того, что можно назвать большевистской доктриной. Она сложилась не сразу и в развернутом виде была формулирована ее создателем, Лениным, только в 1917 г. В течение дореволюционного периода своей деятельности Ленин, по крайней мере на словах, присоединялся к той демократической концепции ожидаемой революции, которая была общей для всех русских социалистических партий. Но уже и тогда, и притом задолго до 1917 г., в его высказываниях, а в особенности — в его политических действиях можно было найти элементы, стоявшие в непримиримом противоречии как с этой концепцией, так и вообще с основными традициями передовой русской общественной мысли.
Как бы то ни было, в окончательной своей форме ленинский большевизм оказался не «завершением», а наоборот, — отрицанием этих традиций. Это и привело к изоляции большевизма от всех остальных русских общественно-политических течений — изоляции, начавшейся еще до революции и к 1917 г. в сущности уже завершенной. Большевизм был тогда «сектантской» верой, никакой значительной роли в культурной и умственной жизни русского общества не игравшей. Никаких шансов на победу в свободном состязании идей у него не было. Только захват власти, сопровождавшийся созданием беспримерного в истории аппарата контроля над человеческой мыслью, позволил большевикам насильственно навязать стране свою сектантскую веру как обязательное для всех мировоззрение.
Ленинский большевизм представлял собою своеобразную амальгаму (именно амальгаму, а не синтез) отдельных элементов марксизма и русской немарксистской революционной традиции. И в том, и в другом случае Ленин взял из наследия прошлого то, что в нем было наиболее отрицательного и наиболее устарелого.
Идеологические и психологические корни большевизма приходится искать в раннем марксизме эпохи революционного коммунизма середины прошлого века и в русском революционном подполье якобинского типа 1860-х— 1870-х гг. В соответствии с заговорщическим пафосом большевистского движения, Ленин брал из этих двух источников их авторитарные и сектантски-доктринерские элементы: идею диктатуры, идею революционной элиты, веру во всемогущество революционного насилия, презрение к «формальной демократии», политический аморализм и фанатическую нетерпимость в отстаивании революционной доктрины, претендующей на роль всеобъемлющего и общеобязательного мировоззрения.
В результате получилась система, в основных своих позициях полярно-противоположная всему тому, что накануне революции 1917 года составляло общее достояние русской общественной мысли.
Дух свободолюбия ленинскому большевизму был чужд с самого начала и остался чужд ему до конца. Его место занял дух насилия и принуждения. О самоценности и достоинстве человеческой личности для большевизма не могло быть и речи: человек был только средством к достижению поставленных себе большевиками революционных целей. В жертву этим целям они готовы были принести, без. каких-либо сомнений и колебаний, не только отдельных людей, но и целые общественные группы. Народолюбие прежних революционеров сменилось чисто «прикладным» подходом к народным массам. Судьбой крестьянства, как такового, Ленин озабочен не был. Крестьянство интересовало его в сущности как «пушечное мясо». Рядом тактических маневров он сначала старался использовать крестьянство в целом для свержения царского правительства и для захвата власти, а потом, когда эта цель была достигнута, началось разжигание «классовых противоречий» в крестьянской среде, ознаменовавшее эпоху «военного коммунизма». НЭП не только оказался временной передышкой, но и был задуман в качестве таковой, и хотя «ликвидация кулачества как класса» и принудительная коллективизация произошли уже после смерти Ленина, нетрудно доказать, что они были только логическими выводами из общего его стратегического замысла. Та же самая стратегия — стратегия политического обмана — была применена Лениным и его последователями и по отношению к национальностям бывшей Российской Империи.
Идея служения народу была подменена в большевизме идеей властного руководства народом. В созданной большевизмом концентрической системе командования — места для народной самодеятельности не нашлось. «Пролетариат» ведет за собою трудящиеся массы; коммунистическая партия ведет за собою пролетариат; центральный комитет командует коммунистической партией; политбюро командует центральным комитетом — в течение многих лет единый вождь командовал политбюро. В этой, построенной по армейскому образцу, системе не остается и тени демократии. Честь изобретения тоталитарного государства принадлежит большевизму: Муссолини и Гитлер были только учениками и подражателями Ленина. Всемогущество этого сверхцентрализованного государства оставляет далеко за собою все прежние деспотические режимы. Этой его сути не могут прикрыть ни употребляемая им демократическая фразеология, ни все те видимости «народного участия», которые он ухитрялся создать. Демократия значит народоправство, а его не может быть без народного волеизъявления и народного самоуправления.
* * *
Нам не дано знать ни сроков освобождения России из под власти коммунистической диктатуры, ни тех путей, которыми оно пойдет. Но в том, что оно наступит, — сомневаться не приходится. За это порукой творческие силы русского народа, уцелевшие и под беспримерным гнетом этой диктатуры.
Сейчас для нас не ясен — и не может быть ясен — облик той возрожденной России, которая придет на смену коммунистическому режиму. Но можно сказать с уверенностью, что в процессе этого возрождения сыграют свою роль и традиции дореволюционной русской общественной мысли. Не те или иные из прежних политических или социально-экономических программ, неизбежно утративших сейчас свою актуальность, а те основные, исходные положения, о которых шла речь в этой статье. В отличие от отдельных ошибочных прогнозов и иллюзий, правильность этих основных положений не только не была опровергнута, но напротив была подтверждена историческим опытом нашей эпохи и прежде всего — трагическим опытом нашего народа. Подлинное возрождение России может произойти только на путях свободы и народной самодеятельности и в рамках правового демократического государства.
Примечания.
1 В том же номере «Вопросов Истории» напечатана небольшая заметка о двух статьях проф. Щипанова в сборнике «Из истории русской философии 18-19 вв.», изданном Московским университетом. В этой заметке приводится ряд примеров «произвольного обращения с текстом». Приведу из них один. Стремясь доказать материалистический характер теории познания Радищева, Щипанов приводит следующую цитату из одного его произведения: «Я сам знаю, чувствую, что для убеждения в истине... нужно нечто более, чем доводы умственные». Значит, комментирует Щипанов, «в теории познания Радищев отводит значительное место опыту». Но при проверке оказывается, что за тремя точками в приведенной им цитате скрываются выпущенные слова Радищева «о бессмертии человека». Из контекста ясно, что Радищев имел в виду не опыт - в том смысле, в каком этот термин употребляет Щипанов, - а интуицию (по терминологии 18 века - «внутреннее чувствование»).
2 Я сознательно оставляю в стороне спорный вопрос о якобинских элементах в политических взглядах Чернышевского. Я готов согласиться с Н. Вольским, что они у него были и что именно они оказали сильное влияние на молодого Ленина. Но думаю, что для большинства революционеров того времени личность и учение Чернышевского значили нечто другое.